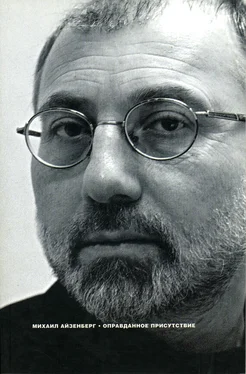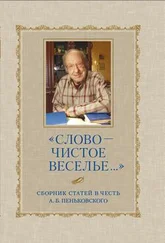Наверное, замечательно, что этот величайший художественный миф нашего века постоянно перетолковывается. Но, знакомясь с новыми материалами, хорошо бы понять, с чем мы, собственно, имеем дело, и соединимы ли эти версии с тем пространством, о котором шла речь.
Можно предположить, что любое свидетельство имеет жанровую природу, и в первую очередь попытаться этот жанр определить. Если, например, считать особым жанром литературный скандал, то, пожалуй, именно к нему тяготеет последняя по времени мемуарная публикация Э. Г. Герштейн. [16]Как хорошо она пишет! Выразительно и точно, экономно, без претензий. При том, что самая тонкая ткань давних переживаний доходит до нас иногда с болезненной ощутимостью: «Это был мгновенный приступ отчаяния и сиротства, налетевший на меня как предостережение и так же мгновенно забытый». И все-таки поздние воспоминания верной подруги Мандельштамов производят странное и, надо сказать, довольно тягостное впечатление. Самое страшное, что можно из них узнать, – это что эротический климат квартиры Мандельштамов отличался некоторой прихотливостью (так не монастырь же). Но маленькие ядовитые стрелы с более чем полувековой выдержкой… Но продуманная с прустовской тщательностью система оговорок…Именно с ее помощью выстраивается новая версия последних лет жизни поэта и его гибели. Эта версия, вероятно, в чем-то правдива. Но – как бы это сказать? – она явно не реальна. Для объяснения вещей такого масштаба недостаточно такой правды; они существуют не в ряду фактических обстоятельств (так и видишь этот частокол), а в силовом поле событий. Но что такое «событие»? Сам Мандельштам определял как событие стихи, а поэзию (в «Разговоре о Данте») называл «полем действия». Событие это происшествие, обнаружившее собственный смысл. «Узел жизни, в котором мы узнаны». Не помещающийся ни в одну линейную фабулу остаток , должно быть, и состоит из таких событий.
Повествование не захватывает те области, где жизнь Мандельштама становится его стихами, и нам негде соединить их в один текст. Правда и реальность, не сойдясь в самых важных пунктах, начинают опровергать друг друга.
Это как бы сырая правда. Точечная, эпизодическая. Память не панорамирует, поздние свидетельства Э. Г. пытаются воссоздать зрение без дальней перспективы: взгляд очевидца событий. Но такой взгляд должен фиксировать текучее, переменчивое состояние жизни, и сам должен быть переменчивым и совершенно непредвзятым.
В этом опасность мемуаров: они фальсифицируют наблюдателя. Мемуарному наблюдателю подвластно только спрессованное и выбранное (выборочное) время, его глаз не фотовспышка, нельзя сфотографировать воспоминание.
Нет правды вне правды жанра, и мемуарный герой должен иметь ту же природу, что и мемуарное время – слитную и выборочную. Такой слитный образ дала в своих воспоминаниях Надежда Яковлевна. Может быть, не образ Мандельштама, но образ своей жизни с О. М. Воспоминания разных людей о Мандельштаме в массе не очень выразительны. Заметен осудительный уклон: не отдавал долги, вспыльчив, запальчив, часто несправедлив. До смешного похож на Парнока, то есть на автошарж. Кажется, что никто из современников так и не увидел Мандельштама в полный рост. Только Ахматова и Надежда Яковлевна. Они и пишут о нем, как никто. «Когда, уничтожив набросок, / Ты держишь прилежно в уме / Период без тягостных сносок, / Единый во внутренней тьме…» Все пишут о набросках судьбы и отброшенных вариантах, а они – об окончательной редакции.
Но даже для поздних стихов Мандельштама окончательные редакции достаточно проблематичны. Когда Э. Г. Герштейн открыто обвиняет вдову поэта и Анну Ахматову в умышленном лжесвидетельстве, то здесь возможно только одно возражение: эта редакция не убедительна текстологически. Она подобна тем исследованиям, которые возвращают шедевр к исходному замыслу и свидетельствуют о том, чем не стало великое стихотворение, многократно переписавшее себя по ходу дела, – по воле языка и собственной нарождающейся формы.
Говорить об этом тяжело, больно и очень опасно. Ни на секунду нельзя забывать, кто говорит – и о ком. Воспоминания современников, друзей, хранителей архива – и мнения о них случайного человека из послевоенного советского поколения. Кому они интересны? Но и почтительное недоуменное молчание едва ли лучше, какой автор пожелает, чтобы именно так был встречен его труд.
Уместнее все же сопоставлять свидетельство и свидетельство. Мне кажется, что лучшим комментарием к мемуарам Герштейн были бы письма С. Б. Рудакова, тоже сравнительно недавно опубликованные в значительном объеме. [17]Это действительно «документ». Рассказывая жене о своем гениальном наставнике и подопечном, Рудаков попутно сводит с ним кое-какие счеты. В основном творческие (тот не ценил его стихов), но переведенные в однообразные сетования на дурной характер, на припадочную вспыльчивость и «суетливые» попытки не пропасть сразу и окончательно. Разочарованно отмечает полное отсутствие величавости в этом истерзанном и почти умирающем человеке («Побледнел: „Сергей Борисович, а я, часом, не умираю? Со мной этого не было, так что я не знаю, как это бывает…“» [18]Какая жизнь, сердце разрывается. Цеплялся за любую работу, оттачивал рецензию на сборник метростроевцев. Песье одиночество…) Но когда Мандельштам начинает перекипать стихами, наблюдатель отводит взгляд от бокового зеркальца, приходит в себя и видит наконец своего собеседника. Происходит какое-то чудо: мгновенное возмужание, даже стиль меняется, исчезают жеманные инверсии, рассказ идет легко и бегло. «Боже, как дивно Мандельштам говорит». [19]В записях Рудакова действительно появляются клочки записанных по свежим следам подлинных мандельштамовских слов. По большей части они звучат как зажеванная магнитная запись, но прорывается и живой голос: «Отобраны, заложены жизнь и смерть – выданы ломбардные квитанции. То же у других людей. И идет разговор с помощью квитанций, а настоящее все спрятано – концы в воду. Действительность надвинулась. Мы ощущаем ее корку, ее отвердение. Жизнь – это же движение, действие, событие – его нельзя описать». [20]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу