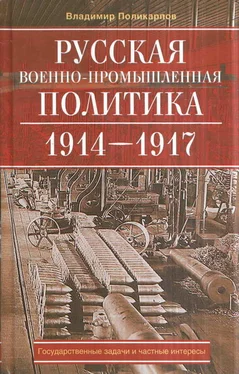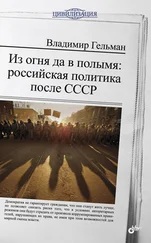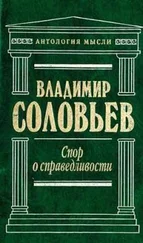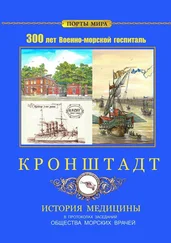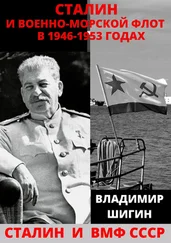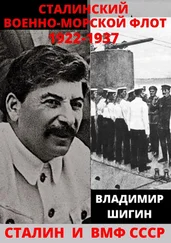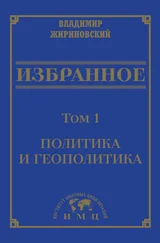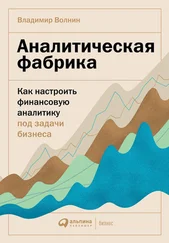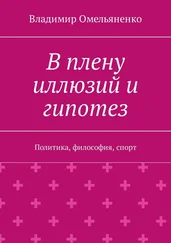На исследования, столь тесно сопряженные с военными и внешнеполитическими аспектами экономической истории, естественно, воздействуют процессы, происходящие в идеологии, в чем имели возможность убедиться историки с опытом пережитых «оттепелей» и попятных сползаний. Знаменательные сдвиги были отмечены участниками конференции, проведенной в 1994 г. Ассоциацией историков Первой мировой войны. Выступая на конференции, В.И. Миллер наряду с «характерным для последних лет восхвалением Романовых и их ближайшего окружения» указал также на «стремление части политиков и публицистов “разделаться” с идеей интернационализма» и возрождение национализма в его шовинистическом варианте. Есть «немало тех, кому будет неприятна правда о той далекой… войне», сказал Миллер, и «уповать на “благоприятную” для исследователей историографическую ситуацию… не следует» {25} 25 Миллер В.И. Первая мировая война: к анализу современной историографической ситуации // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998. С. 60. Та же нота прозвучала у B.C. Дякина: «Пока есть возможность, надо исследовать…» (Анатомия революции. СПб., 1994. С. 52).
.
З.П. Яхимович тоже обратила внимание на создавшиеся «условия крутой ломки методологических и ценностных ориентиров» и при этом — на стремление историков без «серьезной научной разработки» проблем заполучить откуда-нибудь готовым новый «эталон научной объективности и беспристрастности». Поспешно избавляясь от своих вчерашних воззрений, они проникаются иными идеологическими установками и примеряют к ним «соображения об объективных либо ложно понятых государственных и национальных интересах». Исследователи, способные критически оценивать источники, не заблуждались относительно того, что «понятие национальных интересов, широко использованное для оправдания войны правящими кругами», получало разное истолкование и внутри господствующих классов, и в массах населения, но не имело объективного содержания; правители государств, втянувшие свои страны в мировой конфликт, не понимали, что делают, имели ложные представления о преследуемых целях и о том, чего это может стоить {26} 26 Яхимович З.Л. О некоторых вопросах методологии исследования происхождения Первой мировой войны // Первая мировая война. Пролог XX века. С. 17, 18, 20; см. также: Улунян Ар.А. Балказия и Россия. М., 2002. С. 73–74, 138, 139, 166, 202. О научной бессодержательности самого понятия «национальные интересы» высказывались ранее по докладу И.В. Бестужева участники теоретического семинара В.И. Бовыкин, В.М. Кулиш, A.M. Станиславская (Историческая наука и некоторые проблемы современности. М., 1969. С. 406, 416, 422, 423, 426), к тому же выводу приходят и другие исследователи (см.: Researching World War I. A. Handbook. Westport, Conn., 2003. P. XVI. Introduction; Минц M.M. Германия в Первой мировой войне: современная немецкая историография // Первая мировая война: Современная историография: Сб. обзоров и рефератов. М., 2014. С. 30. Речь идет о кн.: Miiller S.O. Die Nation als Waffe und Vorstellung: Nationalismus in Deutschland und Großbritannien im Ersten Weltkrieg. Gottingen, 2002). Ныне, как замечено, политология относит «национальные интересы» к своим «базовым понятиям» (Быков О.Н. Национальные интересы и внешняя политика. М., 2010. С. 221) и усиленно разрабатывает эту золотую жилу.
.
Приведенные наблюдения, как показало дальнейшее, отражали реалистическое понимание перемен. Сущность сдвига определил в посмертно изданной книге Шацилло. Многие авторы, писал он, «вольно или невольно считавшие себя последовательными марксистами… превращались в заурядных великодержавников, апологетов милитаризма», отстаивая задним числом претензии властителей империи на «место в “европейском концерте”» — претензии, несоразмерные военно-экономическим возможностям страны, при губительных для ее развития последствиях. Ввязываясь в войну, режим Николая II ставил перед собой невыполнимые задачи, противоречившие «нуждам и состоянию России». В своем анализе военно-экономической политики Шацилло проводил различие между «общегосударственными» интересами с точки зрения «правящей бюрократической клики» и насущными интересами большинства народа {27} 27 Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. М., 2000. С. 7–12.
.
В конечном счете после недолгой второй «оттепели» вновь наступила реакция. Пропаганда великодержавности потребовала от историографии переключиться с обоснования закономерности революции путем рассмотрения ее «социально-экономических предпосылок» — на противоположную задачу: показать, какую процветающую империю погубила беспочвенная злодейская революция. Такого рода вывернутая наизнанку конъюнктура породила истолкование событий 1914–1917 гг. под характерным политологически-полицейским углом зрения — андропологический, так сказать, подход {28} 28 См. также о «провокационном понимании истории»: Слонимский А.Г. Катастрофа русского либерализма. Душанбе, 1975. С. 199.
: революция есть «организованный активной частью контрэлиты с использованием мобилизации масс антиконституционный переворот», пишет Вяч. Никонов; все это «творят… не массы, а люди с именем и фамилией» {29} 29 Никонов В. Крушение России. 1917. М., 2011. С. 13–14.
. И адресами. Для полицейского ума наиболее привычно убеждение, что беспорядков просто так не бывает, должен быть «элитарный зачинщик», побуждающий массы к революционным действиям {30} 30 Zuckerman F.S. The Tsarist Secret Police in Russian Society, 1880–1917. London, 1996. P. 231–232.
.
Читать дальше