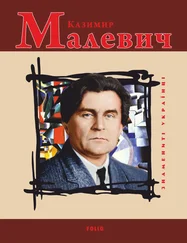Малевич работал в слове – как и в живописи – своего рода циклами, углубляя, развивая изложение выношенных идей в пространстве и времени. Сочинения, опубликованные в витебские годы, являлись, по сути дела, фрагментами единого текста, созидаемого на протяжении всех провинциальных лет. Примечательно, что такая корневая общность впрямую отразилась и на реальном бытовании некоторых из них: так, книжка «От Сезанна до супрематизма» представляла собой несколько крупных фрагментов сочинения «О новых системах в искусстве», смонтированных в самостоятельный текст, а трактат «Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика» был частью второго раздела основного философского труда Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность», законченного 19 февраля 1922 года.
Брошюре «Бог не скинут» суждено было стать последней книжкой великого человека, изданной на родине. Это сочинение, построенное на чисто спекулятивных рассуждениях, говорило о последовательности и бесстрашии мыслителя-самородка: обретенный им философский абсолют принял образ иррационального, непостижимого Ничто, мирового вакуума, конца и начала Вселенной.
После переезда в Петроград появилась последняя декларация Казимира Малевича, где все размышления и выводы закрепились в необычной формуле. Лаконичный манифест «Супрематическое зеркало» (1923) представлял собой словесно-математическое уравнение, в котором левая часть с перечислением разнообразных предметов и явлений мира была связана через знак равенства с огромным Нулем. Амбивалентная сущность Ничто, заключавшего в себе Всё и vice versa, была выражена с прямодушной, непреложной наглядностью.
Силы и потенции художника, соприкоснувшегося с Ничто, отнюдь не были исчерпаны. Теперь смыслом его деятельности стало исследование и пропагандирование открывшегося перед ним художественного и духовного опыта: в биографии Малевича началась своеобразная академическая стадия. Он погрузился в научно-исследовательскую работу, стремясь экспериментально, как в точных дисциплинах, обосновать выстраданные концепции возникновения новейших систем в искусстве. Над этими обоснованиями трудился и сам творец, и его последователи в Государственном институте художественной культуры (Гинхуке), которым Малевич руководил в 1924–1926 годах. В его жизнь вновь возвратилось пластическое творчество, вылившееся в создание объемных супрематических моделей, архитектонов. Они, по мысли автора, могли служить реальными проектами «супрематического ордера», нового большого стиля, способного определить все сферы духовной и материальной жизни человечества – от архитектуры до кинематографа. Малевич считал, что конструктивизм, ведший свою родословную от татлинских контррельефов, двигался совсем не той дорогой в утверждении нового стиля, нового искусства: полемика не утеряла прежнюю важную роль для пророка супрематизма.
Напряженная, многомерная деятельность художника-теоретика все реже и реже получала доступ к общественной трибуне. В советской действительности воплощались иные утопии, которым одинаково чужд, враждебен был и супрематизм, и конструктивизм; статьи Малевича принимались к публикации все неохотней, почти всегда сопровождаясь редакционным открещиванием – «дискуссионная». Разгром Гинхука в 1926 году, уничтожение уже готового сборника трудов института с малевичевским трактатом «Введение в теорию прибавочного элемента в живописи» ознаменовали быстро надвигающееся завершение его публичных выступлений в прессе. После 1930 года воцарилось полное молчание – на многие десятки лет.
Литературное творчество Малевича при его жизни вызывало волну неприятия. Об идеологическом, мировоззренческом отторжении супрематических идей и говорить не приходилось – слишком разительно отличалось исповедуемое художником великое Ничто от оптимистической, «единственно верной» теории марксизма-ленинизма. Но были – и остаются – черты малевичевской словесности, которые не так легко поддаются усвоению и сейчас. Речь идет об обескураживающей самобытности литературного изложения. Стиль Малевича, порывающий с общепризнанными литературными и языковыми нормами, при поверхностном знакомстве кажется неуклюжим, безграмотным, варварским. Читать его сочинения есть трудно труд, который вознаграждается сторицей. Вникая в насыщенную, плотную, органично-корявую речь Малевича, – по ошеломляющей выразительности она подчас напоминает прозу Андрея Платонова, – невозможно не поддаться совершенно особому ее очарованию, если не сказать, магии. Неологизмы и этимологическая свежесть малевичевского словоупотребления, восходящие к поэтике будетлян и заумников, энергия мысли, озаряющая тугую, шероховатую фразу, обнаруживали все ту же креативную мощь, которой столь полно, столь щедро был наделен гениальный инициатор супрематизма.
Читать дальше





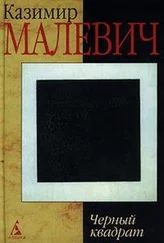
![Казимир Малевич - Черный квадрат как точка в искусстве [сборник litres]](/books/396537/kazimir-malevich-chernyj-kvadrat-kak-tochka-v-iskusst-thumb.webp)