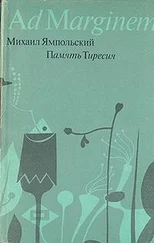Важно отметить и его прозорливость: он предвидит те возможности экранного повествования, которые вскоре совпадут с поисками «интеллектуального» кино Эйзенштейна.
Тому же Андре Бержу удалось разговорить Блеза Сандрара. Но насколько действительно интересными были его литературные опыты, настолько бедными оказались теоретические наблюдения.
Из них два все же заслуживают внимания: во-первых, категорическое отрицание тождественности кубистических или иных модернистских декораций с подлинно передовым кинематографом (вспомним, что это говорилось, когда сенсационной новацией считались стилизованные сооружения Леже, Кавальканти и Малле-Стевенса в фильме «Бесчеловечная» Л’Эрбье), и, во-вторых, чисто лирическое признание в том, что главными персонажами задуманного им фильма о Бразилии будут лес и река... Здесь Сандрар перекликается с творчеством Флаэрти и Довженко, которым удалось осуществить то, о чем лишь мог мечтать французский писатель в 1925 году.
Если поэт призывает пейзаж к соучастию в визуальной образности кино, то Антонен Арто, этот трагический бунтарь, предтеча и пророк крайних устремлений современного театра, вступая в схватку с апологетами «чистого» кино, неожиданно обнаруживает в искусстве экрана те его свойства, которые станут впоследствии сильной стороной таких режиссеров, как Бунюэль и частично Брессон и Пазолини.
Он пишет: «Кино прежде всего играет человеческой кожей вещей, эпидермой реальности. Оно возвышает материю и показывает нам ее в глубокой духовности, в ее отношениях с духом, который ее породил. Образы рождаются, выводятся один из другого в качестве образов, требуют объективного синтеза, более проницательного, чем любое абстрагирование, создают миры, которые ничего и ни у кого не просят».
Поэзию кино и роль природы в ней еще несколько раньше, в 1925 году, ощутил Жан Тедеско, основатель вошедшей в историю «Старой голубятни», любитель кино в лучшем смысле этого слова, в своей работе «Киновыразительность».
Прославленный мастер театра Шарль Дюллен выступил в 1926 году с работой, озаглавленной «Человеческое чувство», в которой с поразительной ясностью и точностью определил роль и значение актера в кино. Я сознательно пишу «с поразительной», так как не могу не восхищаться совпадениями с основами учения Станиславского, тогда еще не известными во Франции, той убежденностью, с которой Дюллен утверждал весомость человека на экране, тем мужеством, которое он проявил в защите взаимодействий с театром, объявленным самым ярым врагом «подлинной» кинематографичности.
Итак, перелистывая одну за другой страницы антологии, мы видим, как сталкиваются различные взгляды, вкусы, мысли, так или иначе соотносящиеся с параллельно продолжающейся практикой, то отставая от нее, то опережая ее и тем самым подтверждая важность взаимопроникновения и взаимовлияния творческих и теоретических процессов во французской кинематографии.
Отличительной особенностью данной антологии является, по моему мнению, введение в научный оборот целого ряда новых имен теоретиков. и критиков, чьи выступления убедительно развенчивают легенду о некой «монолитности» апологетов «чистого» кино, монополизировавших ведущие позиции в движении «киноимпрессионизма».
Конечно, среди оппонентов «авангардизма» было меньше популярных и звонких имен, но от этого аргументация их не становится менее убедительной и включенные в антологию материалы раскрывают подлинную картину широкой и полезной дискуссии, не потерявшей значение и для более поздних лет, когда снова в капиталистическом мире возродились «авангардистские» тенденции в различных формах «подпольного» или «психоделического» кино, в частности в США.
При всей спорности отдельных оценок, дискуссионности формулировок и вкусовых пристрастий в работах режиссера Анри Фекура и Жана-Луи Буке, журналиста Андре Делона мы обнаруживаем общие и прогрессивные тенденции того «поэтическогореализма», который при всех его издержках пришел на смену «киноимпрессионизму» и стал ведущей силой французского кинов 30-40-е годы.
Не отрицая той пользы, которую принесла борьба «киноимпрессионистов» со штампами коммерческого кино и не пугаясь тех перегибов, которые возникли от провозглашения новых форм, наиболее точно подвел итог этому процессу Лионель Ландри, так закончивший свою работу «Формирование чувствительности»: «На экране, как в любом другом искусстве, чистая форма прорастает в виде цветка, и корень, которым она питается, может жить долго и порождать такие цветы лишь при условии сохранения связи с жизнью и той духовной и материальной деятельностью, которая несет с собой новое ее осмысление».
Читать дальше