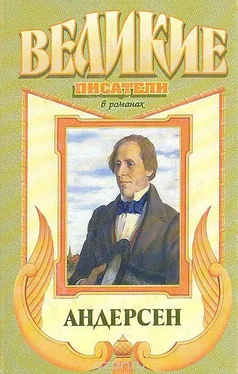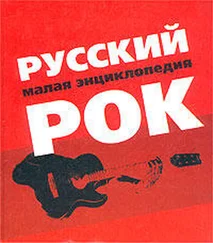Общество просто откинуло этого долговязого врунишку, дало ему стипендию, чтобы отвязаться от его докучливости, и он, Мейслинг, должен принять на себя отношения с этим зазнайкой, выдержать то, что выдерживали десятки семей... И какая благодарность? А никакой... кончит по протекции гимназию и пойдёт тщеславиться, его высокопоставленные знакомые выхлопочут какое-нибудь тёплое местечко для него, женят. И всю оставшуюся жизнь он будет рассказывать детишкам о своей трудной молодости, об угаснувших талантах, кропать стишата, брать слово на обедах и сочинять экспромтом на днях рождения... А талант, на самом деле, один — вырвать у общества то, чего нельзя взять поэтическим талантом!
Подобные мысли часто посещали Мейслинга.
Андерсен сидел в классе, понурив голову. Он и не подозревал о судьбе, приготовленной ему высокочтимым директором гимназии города Слагельсе.
Супруга Мейслинга обожала внимание мужчин. Всё её существо ненавидело домашнюю суету, она была ежедневной каторгой для этой когда-то очаровательной женщины. Домашняя работа съест любую красоту. Жалкая угрюмость провинциальной жизни тяготила её, затворяла все двери в мечты об изменении жизни. Две слабости — выпивка и мужчины были двумя спасательными кругами в море жизни.
Жена Мейслинга любила пунш. Служанка тоже. Это было достойное единение. Девственность Андерсена не нравилась обеим.
— Мне плохо, — произнесла с трудом жена Мейслинга, падая на кровать постояльца.
Царство женской плоти смотрело на великовозрастного гимназиста во все глаза. Во всю мощь желаний.
Плоть женщины в чём-то похожа на предательское болото: вошёл — не вырвешься никогда.
— Сюда, сюда положите вашу руку. — Она возложила руку гимназиста на грудь.
— Вам легче? — теряя себя, спросил Андерсен.
— Как будто... Нет, нет, не отнимайте вашу руку, она способна меня излечить.
Она распахнула платье, и тут гимназист Андерсен вспомнил о странице с начатым стихотворением «Умирающее дитя». Ему стало страшно, что стихотворение увидит глазами букв, чем он занимается, что хочет с ним сделать хозяйка дома.
Она пробежала пальцами по его одежде: чудо, как свеж курчоночек, чудо как свеж, и она засмеялась радостью плоти.
Он отшатнулся, точно у него хотели отнять и «Умирающее дитя», и его замки, и латинскую гимназию, и розу, подаренную на конфирмации.
— Нет, нет, — закричал он, трезвея от её настойчивых касаний. Ему вдруг вспомнилась фабрика, где над ним нагло смеялись подмастерья, хватая его за штаны, и руки голодной женщины так напомнили ему сейчас руки тех хамских подмастерьев, стремившихся грубо узнать, мальчик он на самом деле или всё-таки девочка. Или и то и другое вместе? Его бросило в пот от страха. Уже тогда наглые приставания навсегда поселили в нём отвращение к плоти. Отвращение неизлечимо.
— Нет, нет, — шептал он, выбираясь из-под обломков её желаний. Андерсен-гимназист забился в уголок комнаты, как мышь, пойманная старой кошкой.
— Вот как, ах, вот как, — возмущались женские бровки, — и вам не стыдно? Порядочная женщина смилостивилась преподнести подарок вашему одиночеству, а вы, вы даже себя не уважаете. Нет, никогда, никогда вы не окончите гимназию, тупица вы эдакий, оденсейский обсевок, вечный проситель и бездарный поэт.
Она вывалила всё это так быстро, что гимназист даже не успел впитать в себя унизительный смысл этой тирады.
Когда он выплакал все слёзы, скопившиеся за несколько дней, то сел к столу. В глаза — как спасение — бросилось начатое стихотворение. Оно просило помощи и давало помощь. Он прочёл начало, заменил несколько строк и вдруг почувствовал, как в нём рождается нечто настоящее, прежде не испытанное. Он ещё не знал, что именно это и называется вдохновением.
Стихотворение вытеснило из его сознания остальные явления жизни. Всё отошло, испарилось, уехало в Оденсе.
Андерсен писал и чувствовал, как будет читать Эленшлегер его стихотворение. Он уже знал, ведал краешком своего тщеславного сознания, что великому поэту оно придётся по душе.
Едва он окончил, как в дверь постучали, и ужин потребовал его к себе.
На каникулы он отправился в Оденсе. От Нюборга, того самого города, откуда, мать думала, он вернётся назад, отправляясь в Копенгаген, он пошёл пешком в родной город. Нужно было экономить. Он шёл с узелочком за плечами и представлял, как его встретят в городе.
Его мать пила. Вначале пить заставлял холод реки Оденсе, в которой она полоскала чужое бельё. Холод любил жить в костях бедняков: это его основное занятие. Волосы её поседели. Молодой Густавсон, второй муж, умер. И она стала пить часто, едва ли не каждый день. Седая, пьяная, она ходила по Оденсе от дома к дому и рассказывала о сыне всё, что дарила память, надоедала со своими разговорами, была назойлива, выпрашивая на полбутылки, из неё словно вынули стержень жизни, и она уже не берегла своего здоровья: мужья умерли, сын был далеко, и она была ему не нужна.
Читать дальше