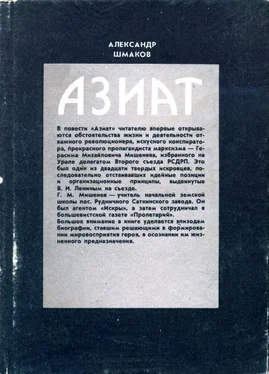И опять, как из тумана, наплывали видения прошлых лет. Он слышал голос Надежды Константиновны: «Ни пуха, ни пера вам, Азиат». Герасим повернулся на бок, слезы скатились со щек. К нему приблизилась Лидия Ивановна и протянула небольшой листок, испещренный ровным и четким почерком. Письмо Крупской. «Отчего Азиат не держит своего обещания писать? Почему молчит Азиат?»
Герасим приподнял голову и снова уронил ее на мокрую подушку. Закашлялся. А в висках все громче стучало: «Почему… почему молчит Азиат, не держит обещания?» С усилием он открыл глаза, но палату обволокла ночь. Все затмилось…
«Что сделаешь, Азиат, если подрезаны крылья и теперь уже не будет взлета, парения, ощущения живого и стремительного движения вперед?»
Герасим сознавал, что гасли в нем жизненные силы, и не страшился надвигающейся смерти. Его и в эти последние минуты жизни угнетало не приближение ее конца, а то, что слишком мало успел сделать. Вокруг оставалось так много неустроенного, незавершенного: большая мечта Азиата обрывалась где-то даже не на полпути, а в самом начале настоящей жизни. Он всегда верил, верит и теперь, что его товарищи донесут знамя до победного и светлого дня.
У часовенки Анюта увидела женщину с букетом жарков. Темно-серое платье старого покроя плотно облегало ее еще стройную фигуру, должно быть, в молодости очень красивую. Из-под черных кружев чепца с темными лентами выбивались седые пряди. На согнутой руке держался тоже черный сатиновый мешочек с вышитыми белыми ландышами, заменявший ей сумочку.
Это была вдова Чернышевского — Ольга Сократовна. На ее привлекательном и умном лице лежала очень давняя, трудно ею переносимая грусть. Одухотворенный взгляд печальных глаз подчеркивал натуру духовно богатую, преданную.
Надгробие Николая Гавриловича среди множества белого, черного, серого мрамора памятников, увенчанных ангелами и крестами, резко выделялось.
Из металла и цветного стекла, часовенка вся горела огоньками на летнем, полуденном солнце. В ней находилось много венков. Ольга Сократовна продала почти всю обстановку квартиры, чтобы набрать денег и заказать часовенку в Москве. Оттуда ее привезли в разобранном виде.
Чернышевская переложила букет жарков в левую руку, достала из мешочка ключик, отомкнула дверцу и постояла у входа. Потом поставила огненные цветы в чашу среди венков.
Анюта подошла к могиле Чернышевского, отделила горстку незабудок и тихо произнесла:
— Разрешите и мне положить цветы, — и протянула незабудки повернувшейся к ней Ольге Сократовне.
— Спасибо, дорогая, — ласково ответила Чернышевская. Она поспешно наклонилась, взяла несколько жарков из чаши и передала их незнакомой, молодой женщине…
Вокруг была тишина. Солнце заливало лучами землю. Оно горело на мраморных памятниках, оградках и крестах. Над вечным покоем струилась песня жаворонка, утверждающая любовь, которая несет человеку радость.
Анюта шла и ничего не замечала — ни солнечного блеска, ни теней, падающих от памятников, оградок и крестов. До нее не доходила и песня жаворонка. Она думала сейчас о встрече с Ольгой Сократовной — верным другом любимого ею писателя, который помог понять жизнь, испытать счастье борьбы, а теперь, быть может, еще острее ощутить щемящую боль потери.
Вспомнилось изречение Чернышевского: «Любовь в том, чтобы помогать возвышению и возвышаться».
Совсем недавно Анюта перечитала роман «Что делать?», купленный и подаренный ей Герасимом в самые радостные для них дни революционной весны 1905 года. Почти пятидесятилетний запрет наконец-то был снят с имени писателя. Книга его свободно вошла в библиотеки, школы, в дома тех, кто ее когда-то искал, тайно читал, переписывая для других или заучивая наизусть отдельные изречения, а то и целые страницы.
Слова Чернышевского дороги были Анюте в далекой юности, когда она их впервые открыла для себя. Дороги и теперь. Ее осенила мысль, что слова-то эти Николай Гаврилович писал как признание Ольге Сократовне. В словах этих продолжало жить его великое чувство к незаурядной женщине, какой представлялась по рассказам Ольга Сократовна.
И мир, на время утративший краски для Анюты, как бы опять приоткрылся. Она чуть прищурила глаза от солнца и различила далекий звон жаворонка, как тогда, в дни встреч с Герасимом в пасхальный праздник на мензелинских качелях. Ей увиделось, как они оставили шумное веселье молодежи и ушли далеко в поле. Там, наедине, Герасим признался, что любит ее. Признание его слилось для Анюты с песней жаворонка, падающей с неба, и это всегда напоминало ей о счастье.
Читать дальше