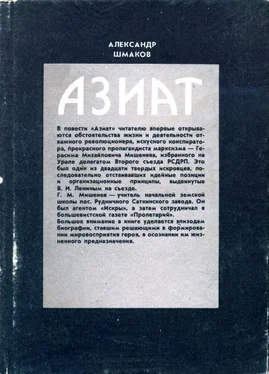Судя по хронике событий, которую узнавал Мишенев со страниц городской газеты, а также из рассказов Анюты и забегавших понаведаться Саши и Егора Васильевича, догадывался — революционное брожение в массах не утихало. Его не могли заглушить ни арестами, ни судами, ни ссылкой.
Царизм впервые отступил перед мощным натиском народных масс. Но Мишенев понимал, он не мог не понимать, что эта первая явная победа революции не окончательная. Она не решала судьбу всего дела свободы. Самодержавие продолжало существовать. Значит, оно будет собирать силы, чтобы задавить революцию. Рано почить на лаврах. Надо готовить себя к серьезной битве. Царь еще не капитулировал. Ленин в своей статье предупреждал: уж слишком легка и быстра оказалась бы победа революции. Владимир Ильич раскрывал лживость царских заверений. Он прав. Не о такой победе рабочих говорил Ленин на съезде, не о ней записано в программе партии, она еще впереди.
Владимир Ильич, нелегально вернувшийся в Россию, писал об этом в газете «Новая жизнь», не переставал говорить на заседаниях Петербургского Совета, на рабочих митингах. Его статьи помогали уяснить обстановку, правильно оценить ход революционных событий. В газете «Волна», которую начал выпускать Саратовский комитет, Мишенев писал:
«Минуты последней, решительной борьбы не на живот а на смерть переживает Россия… Казалось, поверженный грозным потоком враг лежал уже во прахе, испуская последнее ядовитое дыхание. Могучий авангард народной армии, рабочий класс нанес ему неизлечимые раны — и он, по-видимому, сдается, уступая народу свою сильнейшую позицию, — появляется манифест 17-го октября.
Но это пока только слова, только обещания. Вот почему пролетариат, до тонкости изучивший предательскую тактику коварного противника, вынужден продолжать битву, стараясь нанести неприятелю решительный удар и принудить его к безусловной капитуляции».
Это было последнее печатное выступление Мишенева. Вскоре газету «Волна» закрыли.
Герасим Михайлович впал в уныние.
Больной, он бесцельно ходил по комнате. Врач запретил бывать на улице, чтобы избежать новых вспышек болезни. Он не жаловался, но чувствовал, как заметно убывают силы. Холодный пот покрывал все тело, мокрое белье липло к спине и груди. Хотелось вырваться, убежать куда-то на время…
В эти дни он много думал о своей короткой жизни. В мыслях возвращался к Ленину, к его соратникам и близким товарищам по борьбе. Где теперь Сергей Гусев — лихой песенник и весельчак, что поделывает Петр Ананьевич? А где-то рядом с ними, как живой, всплывал тихий, совсем не похожий на них Андрей. Вспомнилось, как вместе бродили по Женеве, осматривали ее средневековую крепость.
Женева, Брюссель, а то и бледное небо Лондона вспоминались ему все чаще. Он словно бы бродил по их тихим улочкам.
Ему хотелось вновь услышать бодрящее слово Владимира Ильича, рассеять тяжелое настроение, навеянное болезнью, набраться сил, почувствовать себя здоровым и ринуться в круговорот жизни, испытать счастливое упоение борьбой и работой. Но прежних сил уже не было. Дух борца еще жил в нем, помогал сопротивляться, но физические боли угнетали его.
В эти дни Анюта получила письмо от Бойковой. Лидия Ивановна сочувственно спрашивала о Герасиме Михайловиче и его здоровье, жаловалась, что стало трудно работать в комитете, правда, последнее время начали помогать ей молодые люди. Она сообщала о делах в Уфе и с горечью писала о Хаустове:
«Пошатнулся, заявляет, меньшевики забрали силу, заправляют теперь в ЦК. Ленин не может с ними сладить, а всем верховодят Плеханов и Мартов. Переубеждала его, но ничего не помогает».
Эту запоздалую новость Герасим Михайлович воспринял с тяжкой болью, даже с каким-то внутренним укором. Вот уже от Хаустова перебежки не ждал, верил в него, и пытался сейчас объяснить самому себе причины его поступка. Если бы был здоров, непременно съездил в Уфу, посмотрел в глаза Хаустову, спросил, чтобы узнать мотивы. Мучительно думал: бесповоротно отошел или есть еще надежда вернуть его в свои ряды? Как жалко терять рабочего человека для партии в такой момент, когда дорог каждый надежный и верный товарищ особенно для Бойковой.
Гремел Глебучев овраг. Неслись по дну желто-мутные потоки, поднимая на гребнях мусор, пенясь и злясь. Надрывались по утрам горластые петухи, кудахтали куры, на подсохшей земле у завалинки, в пыли, с радостью купались воробьи.
Герасим выходил из дома подышать воздухом, посидеть на лавочке у ворот и сразу пьянел от полынно-свежего запаха, принесенного из заволжских лугов и степей. Жмурился от яркого солнечного света, щедро льющегося с высоты чисто-синего неба. Обостренный слух не пропускал ни одного звука. Скрипела на взвозе ломовая телега грузчика, слышались щелчки бича, ворчанье подремывающих у подворотен собак. И над всей этой уличной симфонией, знакомой с детства, главенствовали чудные, пронизывающие душу щелканья, свист, переливы, нежное треньканье скворцов у скворешен, поднятых над крышами почти в каждом дворе.
Читать дальше