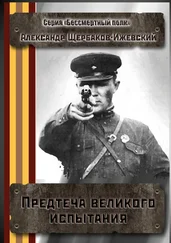Я же оставалась сторожем финской комнаты, потому что – мало ли что… Пригнанные с запада украинцы не внушали моей семье доверия…
…И вот я оставалась одна. Я не открывала ставни, потому что в полумраке поставленные абы как вещи: трюмо посередине, кушетка на попа, разновысокие кровати под единым одеялом, шкаф в простенке между двумя узкими, но высокими окнами (ставни к ним были много ниже, потому что их сняли с петель на старой квартире и привезли завернутыми в скатерти), – так вот, все это в сумраке способствовало моему буйному воображению.
В полумраке все казалось красивым подземельем, где я – пленница влюбленного в меня ксендза: прочла какой-то роман без начала и конца, продававшийся на базаре постранично на самокрутки и кульки для семечек. Дедушка любил «спасать книги». У меня до сих пор стоит Пушкин с семнадцатой страницы, а Гоголь – с сорок второй. Гоголь почему-то шел шибче. Видимо, быстрей загорался. Или более соответствовал семечкам.
Однажды, когда я убедительно и страстно объясняла ксендзу, что любила, люблю и буду любить только краковского шляхтича, не помню, как там его звали, скажем, Кшиштоф, дверь распахнулась и…» И дальше – про тетю Таню ( «Радости жизни» ).
А тем временем у пианино, изгнанного райкомовцами из дома вместе с его владельцами, протекала своя жизнь. В силу каких-то житейских передряг оно переехало еще раз, теперь – к тете Лене Чумачке. И «однажды бабушка сказала: «Пойдем к Чумачке»…В крохотном саманном домике наш «инструмент» выглядел как слон в посудной лавке. Он был нелеп, смущен и обескуражен. Тетя Лена была портниха-надомница.
…Мы еще не вошли во двор, А она уже кричала:
– Приходили тут… Спрашивали, чем мы занимались при немцах.
– И что ты сказала?
– А то и сказала! Они ответили, что никаких фактов нет.
– Ну, гадюки! – ответила бабушка.
А дело было насколько простое, настолько и неразрешимое. С результатом этого дела я ездила поступать в университет и поступила. Это была полстраничная справка, что моя мама была членом партизанского отряда имени Щорса. Смешно сказать, но я хорошо знала этот отряд. Трое дядек, мой отчим, мама и эта самая тетя Лена. Я не сразу поняла, чем они занимаются, но когда они приходили к нам, то садились за стол, на который стелилась скатерть и ставилась водка. А из-под стопки постельного белья доставалась баночка шпрот и ставилась посередине. Я так и не знаю, съели ли их все-таки или нет. Баночку потом, после ухода людей, убирали, как и водку. Дедушка в это время ходил по улице, постукивая палочкой, и на голове его была белая фуражка.
А бабушка на крыльце подшивала бесконечный подол бесконечной юбки. Мое место было на качелях.
<���…> Так вот, поход «посмотреть инструмент» ознаменовался знанием того, что райком нового розлива отряд имени Щорса не признает, а факты диверсий приписывает себе. Будто бы коммунисты никуда не уезжали, а прятались в шахтах и били немцев наповал.
Бабушка сказала, что так это дело не оставит. Что ей глубоко было насрать как до того на немцев, так и теперь на райком. Но дочь рисковала жизнью за родину, хотя она ей объясняла, что эта родина не стоит ее смерти. Дочь не послушалась, ладно, пусть. Они с дедом пасли их, дураков, и дома прятали эти чертовы штыри. Они и сейчас лежат в погребе, где теперь поселили новых начальников. Одним словом, в конце войны отряд Щорса все-таки признали. И маме выдали справку. Хотя до этого она свое отсидела в ДОПРе за самозванство и непризнание боевых заслуг райкома. Ей там поломали пальцы и выбили зуб. Зуб она вставила, а пальцы ее мучили до самой смерти, распухали, ныли и плохо держали.
Когда мама принесла все-таки справку, то стала рвать ее на части, а бабушка выхватила и склеила документ.
– Это не тебе нужно и не мне, – кричала она на маму, – а дытыне твоей! Ей ведь всю жизнь отмываться придется от оккупации! Соображать надо!
Слава богу, не всю жизнь. Но для университета справка была не лишней» ( «Бабушка и Сталин» ).
Какой все-таки занятный и запутанный алгоритм людского познания, казалось бы, явной реальности. Вот сцена ухода из жизни Галиной бабушки, Екатерины Николаевны Сытенко. «…Накануне она попросила борща. «На тим свите такого нэ дадуть», – засмеялась она и почему-то сказала, что рада, что «бачила, як одну сволочь таки выкынулы з Мавзолея. Осталась ще одна. Чекайте, люди, чекайте». Мама сердилась, жаловалась: что бы по-человечески попрощаться, а то всю жизнь Сталин и Сталин. А он нам кто? Никто…»
Читать дальше