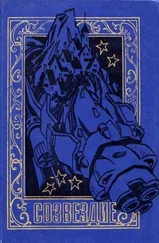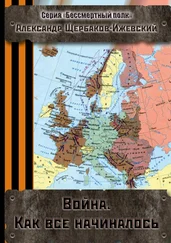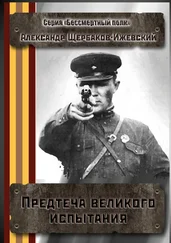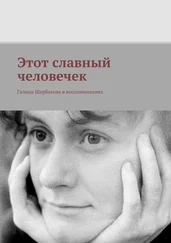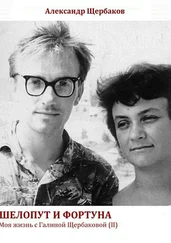Отрицательный персонаж в рассказе – этакий моложавый карьерист (то, что он карьерист, читатель как бы сам домысливает, и эту возможность читательскую посоучаствовать, подомышлять тоже нужно поставить в заслугу молодому прозаику). Положительный персонаж – напротив – сердцем болеет за другого человека, свою собственную карьеру ни в грош не ставя. А героиня – оказывается как бы между двух огней, между «плохим» и «хорошим». И вместе с ней мы, читатели, тоже, в конце концов, склонны полагать, что всегда побеждает и в случае героини нашей тоже победит только «хорошее». Оптимистический вывод налицо – финальная мажорная нота представляется и в общем контексте рассказа, гармоничной, и в контексте непростой судьбы школьной учительницы, вполне оправданной. Давно ожидаемой.
…Рассказ читается с напряженным вниманием, герои, действующие в его пределах, суть не одномерные «отрицательные» и «положительные» персонажи, но – люди с поливалентными, я бы сказал, характерами – есть и хорошее в них, есть и плохое, а так называемый эффект узнавания сопутствует нашему чтению поминутно – то и дело ловишь себя на мысли: правда жизни стала в рассказе Г. Щербаковой художественной правдой, жизнь не скопирована молодым прозаиком в соответствии с какими-то там таинственными законами художественного письма – жизнь во всей ее полноте, со всеми ее радостями и горестями, болями и сомнениями, неудачами и срывами зримо, вещно и, я бы даже сказал, хищно воплощена в нем, в прекрасном рассказе этом – «Кузя-Кирюша».
Именно – хищно, без рюшечек и бантиков».
Куда подевался этот рассказ без рюшечек, не знаю. Можно предположить, исходя из «кислого» отношения автора к «Генералам», что сама Галина запрятала его куда-то подальше, дабы избежать вероятности оказаться в «молодых прозаиках». Поначалу, когда подоспел период «клева на Щербакову», у нее «в рукаве» было и без него много «новинок» из того знаменитого чемодана. А потом… Потом Щербакова вдруг предстала перед читателем совершенно непривычной гранью, многих из публики обратившей в недоумение: и тот же писатель, но и иной – не тот. В критике не раз мелькнуло определение: новый старый автор.
Михаилу Бутову из «Нового мира» удалось в своем обширном интервью с Галиной «разговорить» ее на эту деликатную тему.
– …Однажды у меня появилось чувство, что я здорово отстала. Я будто внезапно очнулась и обнаружила: литература, жизнь, весь мир – все уехало куда-то далеко-далеко вперед. А я застряла, где была. И должна теперь либо кричать вслед: мол, оглянитесь, вспомните, что и здесь тоже остались люди, не все уехали вместе с вами, – либо же догонять, даже обогнать. В итоге я заняла все-таки позицию промежуточную. Я и догнала, и осталась с теми, кто не сумел ухватить за хвост уходящее время. Так вот, в моих ранних вещах никогда не было прямой речи автора, мое собственное «я» оставалось за кадром. Существует такое мнение, и я к нему прислушивалась: когда ты говоришь «я», ты уже не способна ничего сказать о другом, только о себе. А тут я поняла: если я хочу писать некую иную прозу, я непременно должна быть там, внутри. Вроде бы и формальная вещь, но меня письмо от первого лица невероятно раскрепостило. Как будто я долго жила в запертой комнате, а теперь открываю двери, окна, стала выходить и смотреть: оказывается, и там что-то есть, и там… Я сразу обрела второе дыхание. Это не значит, что я собираюсь отныне работать только так. Моя последняя повесть, «Актриса и милиционер», сделана от третьего лица. Но все равно я вступила в какой-то другой мир, заговорила другим голосом – о том, о чем не могла, не умела говорить раньше.
Это было сказано в 1999 году. А само знаменательное «событие» произошло в 1994-м при написании повести «Радости жизни» – «про тетю Таню». Это про нее Галя писала своей сестре: «Начиная с повести о тете Тане, я как-то легко перешла в какое-то другое состояние – я знаю, я умею, я не боюсь».
Вот при таких обстоятельствах она и могла отправить в какое-нибудь небытие «Кузю-Кирюшу», создававшегося в пору неуверенности и опасений. В сожжение рукописи я не верю: сама мысль о нем повергла бы ироничную Галину в состояние неудержимого смеха. Так что я надеюсь еще прочесть этот памятный рассказ.
Но как кстати в мои мемуары прикатилась повесть «Радости жизни» (в некоторых сборниках – «Радости ее жизни»). Она – одна из немногих, про которые Галина сообщила: это и про нее саму. Правда, где-то во второй половине сочинения обнаруживается, что рассказчицу зовут Оля. Уверен, это не недосмотр автора, а его стремление к внутренней правдивости. Какие-то, полагаю, детали в интересах художественной правды прошли обработку в писательском воображении – и «я» уже стало не Галей, а «образом». Олей. Все же остальное население повести, включая тетю Таню, осталось под своими подлинными, дзержинскими (по названию городка), именами. Как и в рассказе «Бабушка и Сталин», написанном позднее (2006 г.), но относящемся к тому же периоду жизни.
Читать дальше