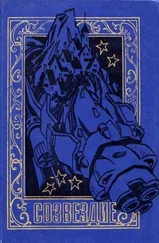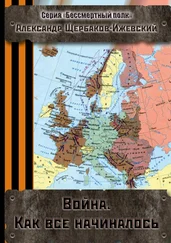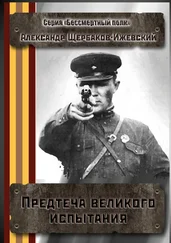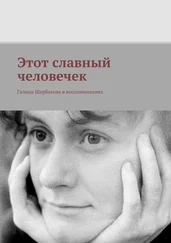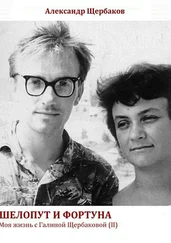А еще тогда обретал свое вальяжное место гимн СССР. Пацанва же вместо стиха Михалкова и Эль-Регистана распевала текст, начинавшийся со слов:
Союз нерушимый,
Голодный и вшивый…
Можно подумать, у нас там процветала свобода слова. Полагаю, что нет. Вот картинка из моего детства. У меня сызмальства выработалась привычка, занимаясь чем угодно, мурлыкать про себя или чуть слышно какую-нибудь случайно подвернувшуюся песенку. Однажды, что-то (не помню что) делая руками, я не заметил, что передо мной стоит папа.
– Ты что сейчас произнес?! – тихо, но зловеще спросил он.
– Ничего.
– Ты какую песню пел?
– А! «Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки».
– Нет! Ты пел не «казаки», а «кулаки»!
– Что ты, тебе послышалось.
– Нет, не послышалось. Ты что, сын какого-нибудь подкулачника?
Лицо у папы было бледное, я почувствовал, что-то нехорошее произошло, но не мог понять что. Ведь я не знал, что «кулак» обозначает нечто иное помимо того, чем дают в морду. Тем более непонятным было слово «подкулачник».
Вскоре во всем этом я разобрался и почувствовал, в каком кошмаре жили мои бедные родители. А вольнодумный пацанячий фольклор был выражением прекрасной и счастливой детской свободы. И еще отображением истинного отношения к «элите» развитой части «электората», то бишь народа. Частицей которого я с самого малолетства инстинктивно хотел быть – и стал ею, получив в конечном счете полагающуюся ей, частице, долю несколько снобистского чувства внутреннего превосходства над «элитой». Над начальством.
Вот тут мы с Галиной совпали один в один. Но к этому исполненному гражданским достоинством чувству, однако же связанному и со свойственной русскому человеку рабской психологией, о которой писал Чехов, каждому надо было прийти индивидуально. Дорасти – и в физическом смысле, выйдя из детства, и в мировоззрении. Хочу привести еще один отрывок из прозы Галины. Я узнал, что рассказ «Аллочка и плотина» тоже автобиографичен, в 2009 году, когда к изданию готовилась книга рассказов «Единственная, неповторимая». Перед автором лежал список трех десятков ее произведений, и она должна была распределить их по разным разделам сборника.
Эта «разблюдовка» сохранилась на ее столе. Многие сочинения были написаны давно, и она, видимо, вспоминая, о чем они, обозначала их, чтобы снова не забыть, словесными метками. «Причуда жизни» – про (непонятно. – А.Щ .) тетку-вдовицу, которая хочет секса, но не знает, что это. «Перезагруз» – поиски новой жены. «Косточка авокадо» – это случай у Ариадны. «Неснятое кино» – о Шукшиной. И так далее. Тогда я и увидел напротив названия «Аллочка и плотина» три слова: «Это история Раи».
Я не раз слышал упоминание об этой ее подруге детства, время от времени они общались по телефону – сначала по линии Москва – Донецк, потом Киев – Москва. Более того, Рая приезжала к нам, и я познакомился с ней. Последнее письмо от нее было поздравительным накануне 2010 года. Заканчивалось оно так: «Пусть метель серебристой порошею / Запорошит любую беду. / Я желаю вам только хорошего / В наступающем Новом году! (Совсем как в школе писали. Да?) Захотелось такое написать».
А вот фрагмент рассказа «Аллочка и плотина».
«Какие голодные мы были в первые послевоенные годы. Как вкусно нам было все: терпкие вишневые листья и черная падалица, белые неоткусываемые корни неизвестно чего и одутловатые, пустые изнутри грибы. Деликатесом был ощерившийся подсолнечной шелухой жмых… в просторечии макуха. Но самое-самое… Самое-самое! Была цветущая акация… Боже, сколько было съедено нежной, махровой, пахнущей… Белой акации гроздья душистые перемалывались нашими детскими зубами так быстро, что приходилось командировать кого-то на верх дерева, чтоб наклонять еще не оборванные ветки к нашим жадно жующим ртам. Как правило, карабкался Геня. Он был среди нас самый гибкий и ловкий. Только он мог забраться почти на самую макушку и, распластавшись на ветке, пригнуть ее низко-низко, так, что нам оставалось только чуть подпрыгнуть и ухватиться рукой.
До сих пор в ногах, в мускулах память об ожидании, напряжении прыжка вверх, чтоб сорвать пышную, примеченную заранее гроздь и успеть сделать это раньше другого, а потом победно закричать забитым добычей ртом… О, сладость, сладость, сладость заглушаемого голода…
– Вы же едите прямо с червяками! – однажды услышали мы. – Так же можно и умереть.
На нас смотрели огромные синие потрясенные глаза. Продолжая автоматически жевать, мы оторопело разглядывали осуждающее нас существо.
Читать дальше