Все это время его отношения с Венским филармоническим оставались относительно ровными. Поначалу оркестранты невзлюбили его, как молодого человека, «заставившего их пересмотреть репертуар, который они считали своей собственностью», однако Маазель, вступая в средний возраст, мягчел, и оркестр проникался доверием к его дару проницательного сопереживания музыке. «Дирижер делает только одно, — настаивал Маазель, — он создает структуру, указывает темп, а затем предоставляет каждому музыканту возможность выразить себя, ощутить удобство, ободряет его и поддерживает». Сибелиусовский цикл, записанный им с «Декка», стал для музыкантов откровением — на прежний их вкус этот финн был несколько холодноват (Бернстайн уверял впоследствии, будто это он познакомил Вену с Сибелиусом). Целостная передача Чайковского вызвала у оркестра, который знал лишь Четвертую и Пятую симфонии, плюс «Патетическую», примерно такую же реакцию. Между Маазелем и Венским филармоническим возникло взаимное уважение. Оркестранты не «любили» его, как любили Бернстайна, однако им нравилось создаваемое им звучание, а его великолепные связи в мире звукозаписи, их просто ослепляли.
В Вене Маазель получил от «Декка» полную свободу, он сам вел переговоры, просиживая по полночи в прокуренных комнатах, чтобы отспорить полпроцента предполагаемых роялти. (Маазель переметнулся от «Декка» к «Си-Би-Эс», когда унаследовал от Джорджа Сэлла Кливлендский оркестр, с которым записал бетховенский цикл, — запись эта отличалась такими огрехами, что обратилась в коллекционную редкость). В Венском оперном театре он построил студию, позволявшую вживую записывать его лучшие спектакли, — записана в итоге была лишь «Турандот», — и порадовал оркестр возможностью получать дополнительный приработок за исполнение ежевечерних служебных обязанностей. Заняв, так сказать, место Малера, Маазель с неизбежностью должен был записать его симфонии. Филармонический, несмотря на набеги Бернстайна, никогда не пробовал исполнить полный их цикл. Затея эта растянулась, после ухода дирижера из оперы, на пять несчастливых лет, и на качестве ее сказался переворот, происшедший в жизни Маазеля. Подход его становился все более и более произвольным, почти до ухода в сторону от музыки, и хотя оркестр играл с присущим ему благородством, в работе его не было той неистовой преданности делу, какой умел добиваться Бернстайн.
Маазель, хоть он и имел вольность сравнивать себя с Малером, особых чувств к своему предшественнику не питал. Он жил через улицу от кладбища, на котором покоится Малер, однако могилу его посетить не удосужился, — пока лорд Сноудон не предложил ему сфотографироваться рядом с ней. Венский филармонический поддерживал Маазеля в сражениях с оперным театром, но лишь до того момента, когда позиция его стала для обороны невыгодной, после чего находчиво переметнулся на сторону противника. Оркестр тоже не питал к бывшему директору никаких сентиментальных чувств.
В свои последние венские месяцы Маазель говорил о том, что хочет надолго отойти от дирижерства. «Сейчас я нуждаюсь в том, чтобы проводить побольше времени с моими детьми, написать пару книг и, может быть, кое-какую музыку, забраться на гору в Кашмире — сделать то, что я хочу сделать, пока не стал слишком стар для этого». Но уже через несколько дней после отставки, он сидел на телефоне, обзванивая оркестры, с которыми желал бы выступить. И в следующие два года дал в обоих полушариях больше 250 концертов, редко проводя на одном месте хотя бы неделю. В Лондоне Маазель исполнил все девять симфоний Бетховена за один день — сменив три оркестра и выходя на дирижерское место во фраке и в спортивных туфлях. «Это должно было стать проверкой моей теории, — сказал он, — насчет того, что дирижирование есть, помимо прочего, еще и вид спорта. Чтобы дирижировать, нужно обладать физической выносливостью. И если вам не удается сберегать силы во время концерта, значит вы неправильно выбрали профессию».
Он работал «на полставки» с Национальным оркестром Франции, отказался занять вакансию, открывшуюся в «Ла Скала», однако вернуться в какой-либо из лучших оркестров Америки не смог — десятилетие, проведенное им в Кливленде, говорило не в его пользу. Только очень умелый дирижер мог довести до такого развала блестящий инструмент Джорджа Сэлла, теперь старательно восстанавливавшийся Кристофом фон Донаньи. В конце концов, Маазель возвратился в Питсбург, закопченный город, в котором он вырос и в котором по-прежнему жили его родители, — отец снимался в фильмах второго разбора, мать преподавала музыку. Маазель выступал с местным оркестром в пору, когда им руководил Фриц Райнер, «неприятный, напыщенный человек», а теперь унаследовал его от неаккуратного Андре Превена. То было «своего рода возвращение на старые позиции», — потребовалось четыре года уговоров, чтобы Маазель принял пост музыкального директора оркестра. «Председатель правления как-то пришел ко мне и сказал: „В чем дело? Вам здесь не нравится? Вы не хотите почаще видеться с родителями? Мы вам не по душе?“ — и я понял, что причин для отказа у меня нет, — не считая той, что мне просто не хотелось снова браться за работу».
Читать дальше
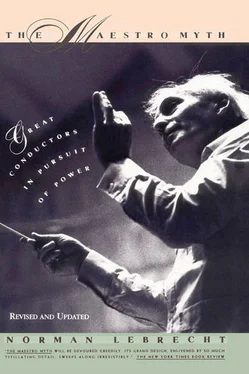


![Роберт Асприн - Удача или МИФ [= Иначе — это МИФ]](/books/204374/robert-asprin-udacha-ili-mif-inache-eto-mif-thumb.webp)







