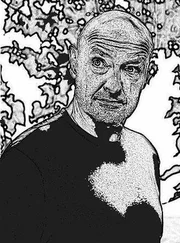Надо признаться, при всем уважении к высокому таланту Пушкина, это был характер невыносимый. Он как будто боялся, что его мало уважают, недостаточно почета оказывают; мы, конечно, боготворили его музу, а он считал, что мы мало перед ним преклоняемся. Манера Дантеса просто оскорбляла его, и он не раз высказывал желание отделаться от его посещений. Nathalie не противоречила ему в этом. Быть может, даже соглашалась с мужем, но, как набитая дура, не умела прекратить свои невинные свидания с Дантесом. Быть может, ей льстило, что блестящий кавалергард всегда у ее ног. Когда она начинала говорить Дантесу о неудовольствии мужа, Дантес, как повеса, хотел слышать в этом как бы поощрение к своему ухаживанию».
Поначалу Натали мало обращала внимания на явное ухаживания кавалергарда. Таких «шаромыжников» много увивалось около нее. Однако привыкший к легким победам Дантес, видя равнодушие жены поэта, казавшееся ему напускным, не оставлял своей настойчивости. Почти год длились его ухаживания, не выходящие, однако, за рамки светских приличий. Заметки современников, их отклики и сообщения в письмах друг к другу говорят о том, что в первые полтора года даже самые близкие люди не видели в ухаживаниях Дантеса ничего, чтобы внушало серьезные опасения.
Как известно, Наталья Николаевна привыкла быть откровенной с мужем. Это подтверждается многими сообщениями, идущими от друзей поэта. Д. Ф. Фикельмон в своем «Дневнике» записала: «Она давала ему во всем отчет и пересказывала слова Дантеса». «Она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя знала его пламенную, необузданную природу», – подтверждал ее рассказ В. А. Соллогуб.
Позднее в ноябрьском письме к Геккерну (1836 год), которое поэт не отправил адресату, Пушкин писал: «Поведение вашего сына было мне совершенно известно уж давно и не могло быть для меня безразличным; но так как оно не выходило из границ светских приличий и так как притом я знал, насколько жена моя заслуживает мое доверие и мое уважение, я довольствовался ролью наблюдателя, с тем чтобы вмешаться, когда сочту своевременным…» Далее он добавлял: «Признаюсь вам, я был не вполне спокоен».
В это время Пушкину было не до легкого кокетства жены, к которому он привык, и которое уже не так волновало и раздражало его как ранее. Поэта волновали совсем другие проблемы. После неудавшегося случая с прошением об отставке Пушкин остро почувствовал всю глубину зависимости от царя и его «милости». Полицейское наблюдение стало настолько постоянным и почти открытым, что поэт узнал о перлюстрации его переписки, и о том, что его письма к жене отправляются Бенкендорфом для прочтения к царю. Цензура его произведений усилилась при новом министре просвещения графе Уварове, который стремился свести к нулю привилегии, полученные поэтом от императора в 1826 году.
Это страшно задевало Пушкина. «Царь любит, да псарь не любит», – писал он в письме к жене. Глубоко самолюбивый, Пушкин малейшую несправедливость к себе переживал остро, пытаясь ответить по возможности градом эпиграмм и по детски неразумным непослушанием. Психологически поэт был напряжен. Он чувствовал, что ему необходимо уехать из столицы, уединиться в деревне. Ему казалось, что только так он сможет отстоять свою свободу творчества и наладить свои денежные дела. Но мечты поэта не сбылись. Он снова попадает в материальную зависимость от царя, принимая решение взять ссуду в 30000 рублей в государственном казначействе, обязавшись погашать ее за счет своего жалованья, и остался в Петербурге.
Мечта о покое и воле, о бегстве в «обитель дальнюю трудов и чистых нег» оказалась утопией. Жизнь решила по-другому. Все эти неприятности с правительством и неопределенность в отношениях с царем, осознание своей зависимости, тревога за будущее семьи – все это вызвало новую депрессию, и творческие силы покинули Пушкина. Осенью 1835 г. Пушкин, приехав в Михайловское в начале сентября с тем, чтобы остаться там на три-четыре месяца, почувствовал, что он не может писать.
Сначала он не терял надежды, что вдохновение, обычно посещавшее его осенью, вновь придет. Но осенние дни текли один за другим, а вдохновение не являлось.
«Писать не начинал и не знаю, когда начну…» – жаловался Пушкин жене 14 сентября. Его последующие письма говорят о все нарастающей душевной тревоге.
21 сентября: «Я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет»;
25-го: «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а все потому, что не спокоен».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу