Вызванный тов. Вейсом, я сегодня получил от него уверения, что книга уже сдана в печать. Осталось только обратиться в технический отдел. В этом самом техническом отделе секретарша при мне переделала красными чернилами цифру „первая очередь“ на цифру „третья“ и заявила мне, что при третьей очереди о сроке печатания сказать нельзя.
Товарищи! Если эта книга с вашей точки зрения непонятна и ненужна, верните мне ее.
Если она нужна, искорените саботаж, иначе чем объяснить ее непечатанье, когда книжная макулатура, издаваемая спекулянтами, умудряется выходить в свет в две недели».
Неделю спустя он разобрался в механизмах Госиздата и написал второе заявление:
«Товарищи!
Недели две тому назад я подал вам заявление, в котором просил вернуть мне „150 000 000“ или же печатать и мягко охарактеризовал отношение к книге, как саботаж. Слово это, конечно, неважное. Называется все это издевательством над автором. Вот последовательное изложение событий.
1. В день подачи заявления г-н Вейс сурово и грозно сказал: „Ах, так! Тогда я сделаю все от меня зависящее, чтоб вашу книгу не печатали, а вернули вам“.
2. В три часа в этот же день г-н Вейс любезно сообщил мне по телефону: „Книгу решено печатать немедленно, за подробностями обратитесь к зав технич отделом“.
3. Заведующий технич отделом сообщил: „Книга посылается немедленно в полиграф отдел и будет печататься вне всякой очереди, так как мы несколько виноваты в промедлении. За подробностями зайдите завтра“.
4. „Завтра“ секретарша мне удивленно сообщила: „Очередь, кажется, вторая, когда напечатается, неизвестно, даже нет о ней никаких сведений“.
5. Гр-н Вейс, спрошенный мною, когда кончится это кормление завтраками, изволил сказать: „Извините, заняты Октябрьскими торжествами. Первого ноября даю вам честное слово пустить в печать“. Я указал г-ну Вейсу, что словам больше верить не могу, дайте расписку. Г-н Вейс дал мне такую расписку:
„В начале ноября (не позже 3–4) книга Маяковского будет сдана в типографию и будет набираться и печататься без всяких задержек. 27/Х. Подпись (Вейс)“.
Слова „будет набираться и печататься“ внесены по моему указанию специально, чтоб мне не морочили голову передачей в какие-то инстанции.
6. Сегодня, 5-го, я обратился к секретарше: „Печатается?“ — „Нет! В полиграфическом отделе“. — „А когда печататься будет?“ — „Неизвестно, на ней нет ‘крестика’, а вот видите список книг с крестиками, эти идут в первую очередь“.
Товарищи! Может быть, ценою еще полугодового хождения я бы и мог заработать этот „крестик“, но карьера курьера г-на Вейса мне не улыбается.
На писание этой книги мною потрачено полтора года. Я отказался от наживы путем продажи этой книги частному издателю, я отказался от авторства, пуская ее и без фамилии, и, получив единогласное утверждение ЛИТО, что эта книга исключительна и агитационна, вправе требовать от вас внимательного отношения к книге.
Я не проситель в русской литературе, а скорее ее благотворитель. (Ведь культивированный вами и издаваемый пролеткульт потеет, переписывая от руки „150 000 000“.) И в конце концов мне наплевать, пусть книга появляется не в подлиннике, а плагиатами. Но неужели среди вас никто не понимает, что это безобразие?
Категорически требую — верните книгу. Извиняюсь за резкость тона — вынужденная».
(Привожу оба заявления не только как свидетельство волокиты, с которой он столкнулся, но прежде всего как пример его интонаций в борьбе с бюрократами: он дожимает их заявлениями, понимая, что больше эту публику дожать нечем.)
В ноябре «150 000 000» наконец сдали в набор, но книга не могла выйти до апреля 1921 года — и вышла только после обращения Маяковского в комиссию ЦК РКП (б) по делам печати, в каковом обращении он снова жаловался на бюрократизм, издевательство и бюрократизм пополам с издевательством. Один из первых экземпляров был направлен Ленину «с комфутским приветом» — ох, знал бы он о грядущей реакции, не передавал бы комфутского привета!
Отзывы были сдержанные. Кузмин, в целом к Маяковскому доброжелательный, отметил: «Изобретательность и блеск площадного зубоскальства (без всякого уничижения такого сорта остроумия) не всегда отвлекают внимание от того обстоятельства, что содержание этих вещей по своему весу далеко не соответствует их „планетарным“ размерам и претензиям». Он пишет далее, что «Мистерия» и «150 000 000» — безусловно события, но события не поэтические. Горнфельд высказался еще ядовитее: «Как бы ни надрывался в своем крике Маяковский, какими площадными грубостями ни щеголял, каким бы уличным озорством ни кокетничал, сам он не площадной, не уличный, а очень комнатный, кабинетный и культурный. Не митинг его публика, а любители, не Иван его ценитель, а интеллигенция». И это совершенно верно — пролетариату такая поэзия была не то чтобы непонятна, — всё он понимал, если хотел, — а как-то наглухо неинтересна. Пролетариату было не до Иванов, и не ради национального мифа делал он революцию. И хотя на вечерах Маяковский продолжал до середины двадцатых читать отрывки из «150 000 000» — чаще всего третью часть, — он вспоминал об этой вещи с некоей неловкостью, как о юношеской иллюзии. Следующая его поэма о революции написана семь лет спустя и отличается подчеркнутой фактографичностью: «Попей из реки по имени факт». Обаяние русской революционной утопии в ней уже начисто утрачено — хотя есть другое обаяние: усталой зрелости, благословляющей революцию на пороге собственного заката.
Читать дальше
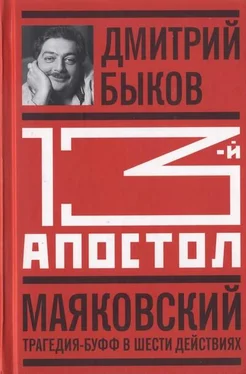
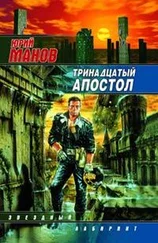



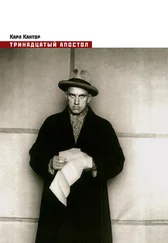


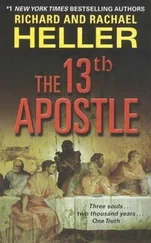

![Алексей Вязовский - Тринадцатый апостол. Том I [СИ]](/books/431195/aleksej-vyazovskij-trinadcatyj-apostol-tom-i-si-thumb.webp)
![Алексей Вязовский - Тринадцатый апостол. Том II [СИ]](/books/431261/aleksej-vyazovskij-trinadcatyj-apostol-tom-ii-si-thumb.webp)
