Тогда за „Мистерию“ вступился театральный отдел, во главе которого встал Мейерхольд.
Мейерхольд решил ставить „Мистерию“ снова.
Я осовременил текст.
В нетопленных коридорах и фойэ первого театра РСФСР шли бесконечные репетиции.
В конце всех репетиций пришла бумага — „ввиду огромных затрат и вредоносности пьесы таковую прекратить“.
Я вывесил афишу, в которой созывал в холодный театр товарищей из ЦК и МК, из Рабкрина. Я читал „Мистерию“ с подъемом, с которым обязан читать тот, кому надо не только разогреть аудиторию, но и разогреться самому, чтобы не замерзнуть.
Дошло.
Под конец чтения один из присутствующих работников Моссовета (почему-то он сидел со скрипкой) заиграл Интернационал — и замерзший театр пел без всякого праздника.
Результат „закрытия“ был самый неожиданный — собрание приняло резолюцию, требующую постановки „Мистерии“ в Большом театре.
Словом — репетиции продолжались.
Парадный спектакль, опять приуроченный к годовщине, был готов.
И вот накануне приходит новая бумажка, предписывающая снять „Мистерию“ с постановки, и по театру РСФСР развесили афиши какого-то пошлейшего юбилейного концерта. Немедленно Мейерхольд, я и ячейка театра двинулись в МК. Выяснилось, что кто-то обозвал „Мистерию“ балаганом, не соответствующим торжественному дню, и кто-то обиделся на высмеивание Толстого (любопытно, что свое негодование на легкомысленное отношение к Толстому высказал мне в антракте первого спектакля и Дуров).
Была назначена комиссия под председательством Драудина. Ночью я читал „Мистерию“ комиссии. Драудин, которому, очевидно, незачем старые литтрадиции, становился постепенно на сторону вещи и под конец зашагал по комнате, в нервах говоря одно слово:
— Дуры, дуры, дуры!
Это по адресу запретивших пьесу.
„Мистерия Буфф“ шла у Мейерхольда 100 раз. И три раза феерическим зрелищем на немецком языке в цирке, в дни третьего Конгресса Коминтерна.
(На немецкий „Мистерию“ перевела Рита Райт — тогда студентка Брюсовского института и самая молодая сотрудница мастерской РОСТА; впоследствии она стала классиком советского перевода, автором прелестной мемуарной статьи о Маяковском „Только воспоминания“. — Д. Б.)
И это зрелище разобрали на третий день — заправилы цирка решили, что лошади застоялись.
На фоне идущей „Мистерии“ продолжалась моя борьба за нее.
Много месяцев я пытался получить свою построчную плату, но мне возвращали заявление с надписями или с устной резолюцией:
— Не платить за такую дрянь считаю своей заслугой.
После двух судов и это наконец разрешилось уже в Наркомтруде у т. Шмидта, и я вез домой муку, крупу и сахар — эквивалент строк.
Есть одна распространеннейшая клевета — де эти лефы обнимаются с революцией постольку, поскольку им легче протаскивать сквозь печать к полновымьим кассам свои произведеньица. Сухой перечень моих боев за „Мистерию“ достаточно опровергнет этот вздор. То же было и с „150 000 000“, и с „Про это“, и с другими стихами. Трудностей не меньше. Непосредственная трудность борьбы со старьем, характеризующая жизнь революционного писателя до революции, заменилась наследством этого старья — эстетической косностью. Конечно, с тем прекрасным коррективом, что в стране революции в конечном итоге побеждает не косность, а новая левая революционная вещь.
Но глотку, хватку и энергию иметь надо».
При его жизни «Мистерия» больше не ставилась и уж тем более никем не осовременивалась; попытка Евгения Симонова в 1982 году вернуть ее на сцену хорошо мне помнится — он-то как раз попытался изменить пьесу, добавив туда стихи Маяковского, и все старались, и был в этом даже некоторый веселый вахтанговский дух, — но позднезастойный год только подчеркивал всю несвоевременность, даже музейность этой пьесы. А если когда-нибудь и настанут в России веселые времена, главными действующими лицами в этих событиях будут никак не пролетарии, да и веселья особого, кажется, не предвидится.
Революция — как потоп, не повторяется. Господь — главный художник — не любит ремейков.
То, что в первый раз происходит как потоп и заканчивается ковчегом, во второй раз повторяется как Гоморра.
СОВРЕМЕННИКИ: ЛУНАЧАРСКИЙ
1
С Луначарским тоже вышло не совсем хорошо.
Познакомились они, как явствует из письма Луначарского жене от 1 июля 1917 года, в этот самый день, в редакции горьковской «Новой жизни», на собрании редколлегии предполагавшегося сатирического журнала «Тачка». Маяковскому было 24, Луначарскому — 41, он полтора месяца как вернулся из Швейцарии, оставив там семью. За плечами у него была бурная, но, в общем, успешная революционная карьера, а все почему? Потому что он никогда не ссорился с Лениным, в которого был влюблен как курсистка. Это видно из его мемуаров. И Ленин ему симпатизировал, называя человеком исключительной одаренности; они не поссорились, даже когда Луначарский увлекся богостроительством и вместе с Горьким создал на Капри партийную школу с идеалистическим уклоном. Ленин его дразнил «Миноносец „Легкомысленный“», и, как большинство ленинских кличек — «Иудушка Троцкий», «помещик, юродствующий во Христе» (о Толстом), «Каменная задница» (о Молотове), эта — прилипла. В Луначарском действительно сочетались некоторая тяжеловесность риторических конструкций и чрезвычайная легкость их генерирования: он мог без подготовки произнести увлекательную, полную цитат речь на любую тему, сочинял декадентские вирши и символистские драмы, да и в жизни часто вел себя, как на сцене. Чего у него не отнять — помимо широчайшей эрудиции, которая почти всегда есть следствие хорошей памяти, — так это двух вещей: во-первых, критиком он был превосходным, зорким, безжалостным (хотя, как почти всегда, в собственных сочинениях этот вкус ему часто изменял); во-вторых, он любил культуру самозабвенно и глубоко, любил больше, чем себя в культуре, и спокойно выслушивал критику; в качестве наркома просвещения он был, вероятно, лучше всех советских и постсоветских министров культуры. У Эдварда Радзинского описан замечательный эпизод: к советскому скульптору заявляется комиссия принимать композицию памяти павших в Великой Отечественной. Родина-мать разинула рот в скорбном крике.
Читать дальше
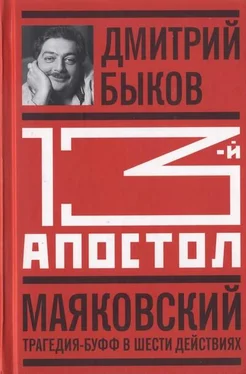
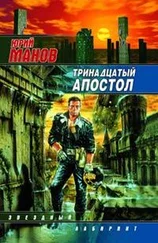



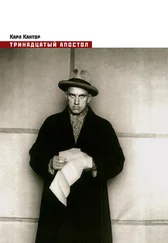


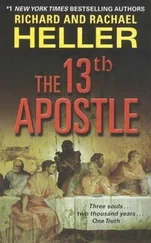

![Алексей Вязовский - Тринадцатый апостол. Том I [СИ]](/books/431195/aleksej-vyazovskij-trinadcatyj-apostol-tom-i-si-thumb.webp)
![Алексей Вязовский - Тринадцатый апостол. Том II [СИ]](/books/431261/aleksej-vyazovskij-trinadcatyj-apostol-tom-ii-si-thumb.webp)
