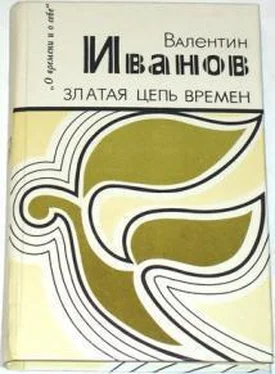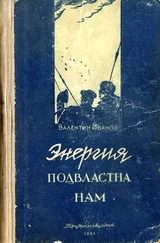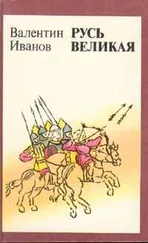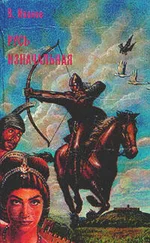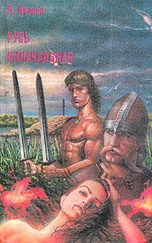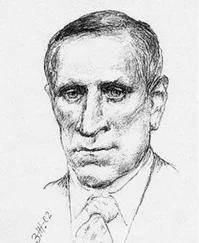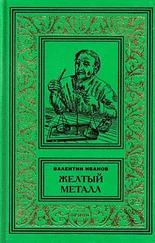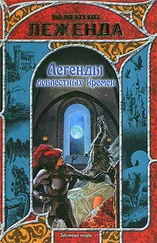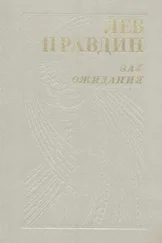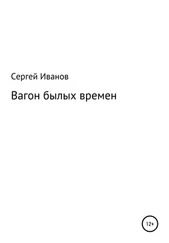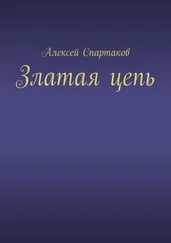На своем сегодняшнем уровне естественные науки считают среду, естественный отбор, наследственность механизмами биологической эволюции всего живого, в том числе и человека. Традиция есть чисто человеческий способ, способность, свойство, механизм, особенность, — у меня нет объемлющего термина, — эволюция человека, как вида. Естественные науки не знают, или еще не знают, как и какие слагающие традиции записываются генетически, то есть закрепляются напрочно биологически, и записываются ли вообще. Но многое, вероятно, уже закреплено. Случайный опыт с потерянными детьми говорит о невозможности возврата к зверю хотя бы из-за необходимости для человека в питании обработанной на огне пищей; а обрабатывать пищу человек научился через «нигде», посредством создания в «нигде» отвлеченных идей, связей между ними и накоплениями традиции.
Если человек располагает свободой выбора и воли в такой мере, что может менять биосферу и даже уничтожить себя как вид, он может изменять и традиции.
Вмешательство в эволюцию национальных традиций, их слом, разрыв — такое очевидно из истории. Оно видно на первых страницах писаной истории, оно прослеживается, если взять близко, от образования Римской республики к Римской империи, сломанной германцами, принесшими свою традицию; оно видно в нашей истории с ее переломами.
*
В течение так называемого доисторического периода жизни человечества национальные традиции сотворялись взаимодействием личностей внутри ограниченных числом коллективов. Развитие традиций, вероятно, происходило в равновесии с накоплением словарного запаса в результате нарастания знаний и расширения отвлеченных понятий. Распространение письменности и общей грамотности ускорило процесс, но и дало возможность его закреплять и как-то направлять. В XX веке с научно-технической революцией хлынул поток самой разнообразной информации, в большинстве случаев направленной, организованной для какой-либо цели.
Как сегодня пересоздается старая и создается новая традиция? В какой мере результаты направленной информации оказываются гомогенными, то есть желательными, и в какой — гетерогенными, то есть непредусмотренными, вредными? Подобных вопросов можно задать много. Но, как кажется, еще нет и еще не может быть достаточного запаса наблюдений для хотя бы приближенных ответов. Но есть право на некоторые констатации.
Так, можно считать, что каждый разрыв сложившихся традиций нарушая равновесие, вообще не может обойтись без каких-либо утрат, отражающихся на личности. А поведение человека тесно связано с его мнением о себе, человеке, с его представленьем о своем месте в мире: я, они, общество. Вне зависимости от склонности к рассуждениям, самооценке, каждый из нас обладает таким представлением. Оно нестойко, оно переменчиво, оно мной не формулируется, но именно оно и определяет мои поступки.
(Целый склад готовых формулировок был в сложенных народом нескольких тысячах пословиц и поговорок. В моем детстве и юности очень большое число людей еще и знало их, и пользовалось. Сейчас — это история.)
*
Порой молодые люди спорят на тему: что важнее — быть или казаться? И на вытекающую из нее еще более острую: сделаешь ли ты гадость, украдешь ли, если никто никогда не узнает?
Воспитатели строят свои доказательства на конечной невыгодности бесчестного поступка для совершившего его, хотя все осталось в тайне. Рассуждения строятся по необходимости на упрощенных примерах личной выгоды. Но на самом деле здесь капитальный вопрос: возможное поведение личности без риска когда-либо и в какой-либо форме попасть под контроль общества…
Таким обсуждениям удобнее опираться на крайние положения. Однако в будничной повседневности каждый из нас всегда безнаказанно своими действиями или бездействиями творит лицо жизни, ее цвет . Взаимная терпимость, честность, доброжелательность определяет цвет нашей личной жизни, это старая проверенная аксиома, и я упоминаю о ней лишь, чтоб сказать: и здесь все слагаемые суть функции чего-то бесконтрольного, ненаказуемого.
Тем же определяется и наш труд. Каменщик, штукатур пользуются цементным раствором, в котором уже началось схватывание, производитель работ попустительствует, чтоб не срывать план; отделочник загоняет шуруп молотком; мебель собирают, заливая клеем слишком широкие пазы; машиностроители нарушают допуски… Примеры бесконечны: от высокой инстанции, которая может дать некомпетентные указания, до уборщицы, заметающей мусор под шкаф.
Читать дальше