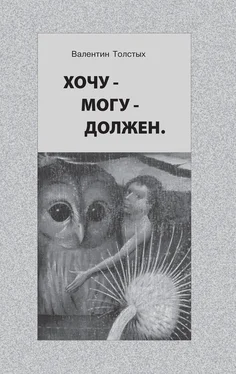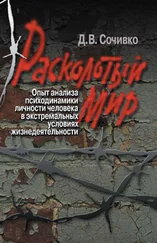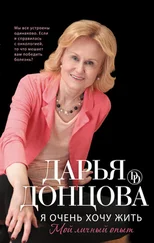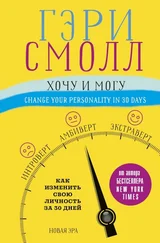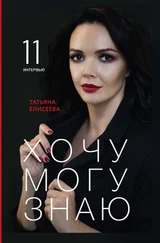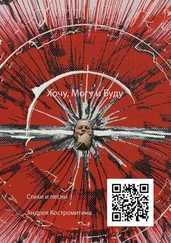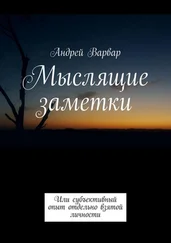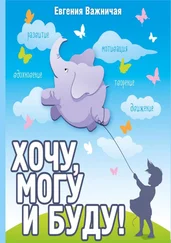Тут дело уже не в памяти, а в отсутствии совести и просто ума у тех господ и товарищей, кто позволяет себе сегодня принижать и унижать участие в войне и победу тем, кто сам не испытал ужаса и голода войны. Как человек, хорошо помнящий то время и пережитые тогда ощущения и переживания, могу подтвердить и заявить, что война всерьез и надолго вошла в сознание и душу моего поколения, и все её напасти и раны еще долго давали о себе знать в мирные послевоенные годы. И если ты сам внутренне готов был измениться и стать другим, память о ней долго еще не давала жить беспечно и бездумно, что я заметил и увидел на примере многих моих товарищей и друзей сначала в школе, а потом и в университете.
Впрочем, сложность любого жизнеописания состоит уже в самой невозможности просто вспомнить и описать прожитую и пережитую тобой жизнь, день за днем и год за годом, со всеми её событиями и испытаниями, радостями и горестями, отпущенными тебе судьбой, временем и обстоятельствами. Сделать это немыслимо, да и не имеет смысла. Тут, помимо памяти, совестливости и честности, понадобится воспроизвести буквально всё, что с тобой происходило и произошло, как говорится, пропустить через себя, осмыслить и оценить в общем контексте прожитого и пережитого. И, конечно, обязательно выяснится, что много времени и сил было затрачено на всякого рода чепуху, бессмысленную возню человека с самим собой, своими дурными привычками или затеями, мало кому интересными. Хотя можно и без спора вполне ординарную жизнь описать, воспроизвести в мелочах и деталях так, что она возьмет тебя за душу и покажется интереснее любых «крутых» историй и драм. Тут существует своя классика, тот же Гоголь, потрясший всех своей «Шинелью», муками и страстями некоего Башмачникова. Тут же ничем подобным не пахнет, придется перебрать, переварить огромную массу фактов, событий и подробностей, вспомнить и оживить в памяти всё прожитое за восемьдесят с лишним лет, чтобы в толще конкретики найти, вышелушить хотя бы одну толстовскую «истину». Задача почти немыслимая: дневников я не вёл, пометок и заметок «на всякий случай» не делал, хотя наиболее важные, значимые моменты и события, конечно, запомнились, и воспроизвести их я, конечно, смогу, попытаюсь.
Выручит меня особенность моего теперешнего внутреннего состояния: странно, но, пытаясь осмыслить и понять нынешнюю российскую реальность, то и дело вспоминаю как раз прожитые годы, пережитые события. Сопоставляю и сравниваю схожие факты, моменты и потрясения, как бы прокручивая собственную жизнь в контексте и духе былое и думы. Занятие совсем не простое: ведь живу я не прошлым, далек от мысли его прославлять или воссоздавать даже мысленно, но всё чаще испытываю трудности (думаю, не только я), пытаясь соединить жесткую реальность переживаемых сегодня процессов и событий с правдой запомнившихся ощущений и впечатлений прошлого. Более всего коробит и поташнивает от жизнеописаний и оценок бывшей советской действительности, вдруг, именно сегодня прозревшими, оказывается, её «до поры-до времени» скрытыми критиками-ненавистниками. Особенно теми, кто, за редким исключением, терпел и бесстыдно прилаживался к ненавистной действительности, проникая в ответственные органы и занимая ответственные посты. Застыв в ожидании удобного момента и появления тех смельчаков, кто однажды отважатся и начнут расшатывать, ниспровергать плохую реальность, в угоду таким же, как они сами, терпеливо ждущим своего часа оппозиционерам. Все последние двадцать лет меня удивляет настырность и наглость, с какою эти проснувшиеся и осмелевшие, недавно вполне лояльные и готовые «годить» граждане СССР, принялись клеймить «проклятое прошлое» – свергнутый советский социализм. Вместо того чтобы заняться переустройством общественного порядка и власти, они занялись устройством своих собственных дел, присвоением даровой собственности и освоением «теплых местечек». Даже не замечая, как нелепо они выглядят в запоздалом гражданском гневе и обличении уже свергнутого «советизма» на фоне более чем омерзительных пороков и безобразий постсоветского «рыночного капитализма».
Мне возразят, скажут, что и советская реальность по-разному воспринималась и оценивалась общественностью: массовый восторг и энтузиазм обездоленных пролетариев и крестьян перемежался в ней с не менее массовым недовольством переменами, которое выражали не только сторонники прежней, «старой», власти и порядков, но и все те, кто не принял или скептически воспринимал саму идею социализма. Что выразилось в таких масштабных событиях и катаклизмах, как мятеж моряков Кронштадта (1921), крах политики «военного коммунизма», поиски властью после победы в гражданской войне новой формулы социализма, стихийное противостояние политике коллективизации в годы так называемого «великого перелома» и т. д. Это исторический факт: социализм строился и внедрялся в обстановке революционных потрясений, столкновений интересов самых разных слоёв, классов и социальных групп, и внедрение социалистических идей и советских порядков происходило в непрерывной борьбе, в условиях острой идеологической борьбы и политического противостояния внутри и вне партии. Одним новые идеи и порядки не понравились сразу же, другим позже, в период «сталинизма». После испытаний, выпавших на долю «реального социализма» (разрушительная война с фашизмом и послевоенное строительство), общество и страна вошли в стадию первого системного кризиса, не совсем точно названного «застоем», которым все недовольные и прямые противники Советской власти охотно воспользовались, совершив контрреволюционный переворот по отношению к Октябрю 17 года. Победив грозного внешнего врага, Советский Союз был разрушен и низвергнут изнутри.
Читать дальше