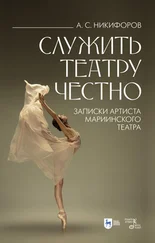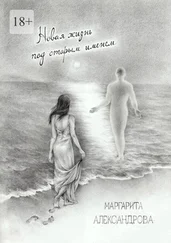Так вот, нас с Боренькой каждое лето отправляли в Молосковицы – видимо, довольно ранней весной. Я помню, как мы жили на «зимней» половине с жаркой русской печкой. И я помню, как «дедушка» приносил из амбара замороженную рябину. Где спала я, не помню, – видимо, на полатях. Боренька спал на печке. Перед сном он говорил, залезая на лежанку, «Деда, какой ноти» («спокойной ночи»). А дедушка отвечал: «Синей, Боренька, синей» – «Какой ноти!» опять повторял Боренька, а дед опять, как будто отвечая на его вопрос, пока не переберет все цвета, доводя его, бедного, до слез. Бабушка сердилась! НО каждый вечер повторялось то же самое.
Дом был деревянный, большой, красивый. Входишь на резное крыльцо, а дальше идут «сени» – длинный широкий коридор. В дальнем конце его хлев, в котором были козочки, куры, иногда откармливался поросенок – в основном отходами со стола, т.к. летом приезжали и отец с мамой, и другие их воспитанники. Туалет был там же «со сходень» – настил над полом хлева. Невдалеке был амбар, сад-огород и банька. За домом до самого сарая, который был и гумном, земля от дома до сарая зарастала травой на корм. Я очень любила там играть (фантазии улетали свободно).
По правую сторону от сеней была приземистая «зимняя половина», как ее называли, а по левую «летняя» – большая с высоким потолком квадратная комната без отопления, в которой зимой вместо холодильника хранились продукты.
Представляю, какой ужас охватил «стариков» (бабушка умерла в 1945 году в пятьдесят лет – это разве старики?), когда в 1944 г после отхода немцев они вернулись из леса и увидели вместо всей этой былой роскоши торчащую на погорелье печную трубу. Вновь строиться не было сил, и они поселились в баньке, которая на их счастье оказалась цела и невредима, как и сарай-гумно.
Я очень хорошо помню детский сад. Он находился на Шестой Линии, между Средним Проспектом и Большим. На бульвар на Большом нас часто водили гулять перед обедом. Идешь счастливая с прогулки, где были даже «горки», а из кухни детсада пахнет гороховым супом – после этого я его очень люблю. А перед обедом нам всем давали по десертной ложке рыбьего жира, который я, в отличие от других детей, да и не только детей, любила и выпивала кроме своей порции еще три – за тех, кто сидел со мной за столом. И это спасло меня от голодной смерти в блокаду, так все мое тело я пропитала этим жиром. Вот как сподобляет Господь!
А в 1954 году, когда я уже работала в Управлении культуры секретарем канцелярии, меня попросили развезти какие-то бумаги, в том числе и в мой бывший садик. Развозила я их в ЗИМе – огромном черном лимузине, где сзади было не два места, как обычно, а четыре, а между ними столик. Это была машина начальника Управления культуры, т.к. я и у него была секретарем частенько. Поэтому встретили меня в садике подобострастно, а когда я с восторгом стала его «обследовать», говоря о том, что еще до войны я в нем находилась, они приняли этот факт очень равнодушно, что меня огорчило. Вот как! Мой «экипаж» их потряс, а простые человеческие чувства оказались недоступны.
Так вот, я очень любила ходить в садик – опять же в отличие от многих детей. Когда и как я научилась читать, я не помню. Но мама рассказывала, что, когда она обычно вечером за мной приходила – а приходила она обычно поздно, когда бóльшую часть детей родители уже разобрали, – я сидела в своей группе на стульчике, вокруг меня все оставшиеся ребята, и читала что-нибудь интересное, в то время, как воспитательница занималась другими делами. Я даже помню, что звали ее Раиса Вениаминовна, потому что отчество ее было очень трудно произносить, и я дома специально тренировалась, трудилась, как работала впоследствии в театральной студии над скороговорками и чистоговорками.
Ну, а отец в это время – с 16 марта 1936 года – благодаря тому же дяде Шуре поступил работать на чулочно-трикотажную фабрику «Красное знамя», на которой он проработал до пенсии: сначала ремонтировал станки, впоследствии стал слесарем-лекальщиком по инструментам – кажется, восьмого или какого-то другого высшего разряда. Его на фабрике очень ценили, поэтому, видимо, он и привязался к ней.
Но… в 1939 году началась Финская война и там, где он был на курсах – в Доме отдыха ЦК – организовали госпиталь и его мобилизовали на работу в нем завхозом. И в одной поездке за обмундированием он отморозил ноги. По-моему, это было где-то в Луге или около. Если мне память не изменяет, то однажды он прихватил и меня туда – «подышать прекрасным воздухом», как он выразился. Я даже помню, как он провел меня на кухню и попросил чем-нибудь угостить «девочку». А повар как раз сооружал пирожные, и отец настоял на том, чтобы он мне дал одно, еще сырое. И я его слопала с удовольствием.
Читать дальше
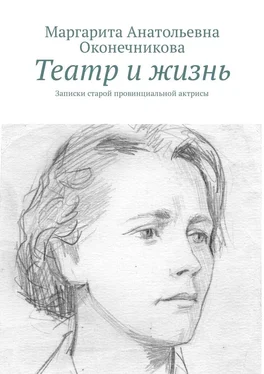
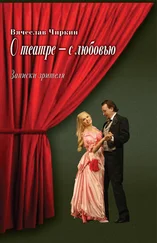
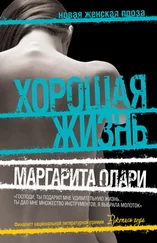

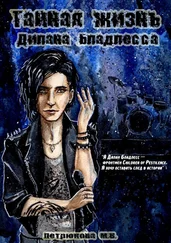
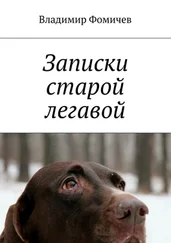
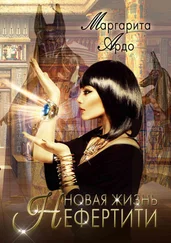
![Маргарита Светлова - Новая жизнь Семёновны и Захаровны [СИ]](/books/404184/margarita-svetlova-novaya-zhizn-semenovny-i-zaharov-thumb.webp)