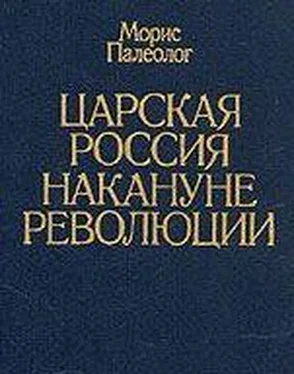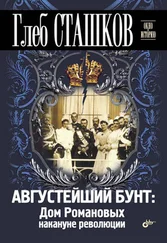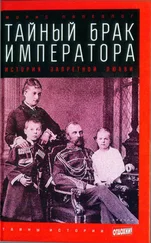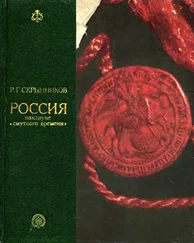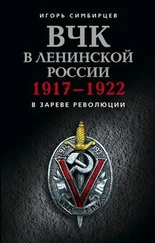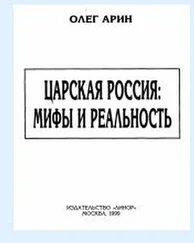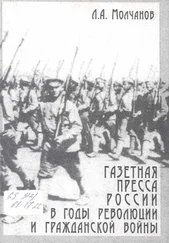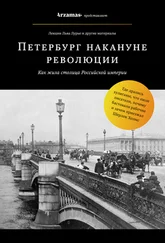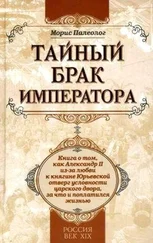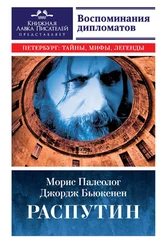Мих. Павлович.
I. Отступление сербской армии.
Суббота, 1 января 1916 г.
Сербский посол Спалайкович был у меня сегодня; у него измученное лицо; глаза лихорадочно блестят и полны слез. Совершенно обессиленный, он падает в кресло, которое я ему предлагаю.
- Вы знаете, - говорит он, - чем кончилось наше отступление? Вы слышали подробности? Это ведь было сплошное мученичество. Я получил сегодня утром известия о трагическом отступлении сербской армии через снежные Албанские горы; армия шла без пищи, без крова, под снежными бурями, измученная страданиями, изнуренная усталостью, усеивая путь трупами. И когда, наконец, она достигла Сан-Джиованни ди-Медуа на Адриатическом море, то здесь ее настигли голод и тиф.
По карте, которую я развертываю перед ним, он показывает мне путь, пройденный этой гибельной "геджрой".
- Посмотрите, мы снова прошли все этапы нашей истории... Отступление началось от Белграда, где Петр Карагеоргиевич заставил турок признать его владыкой Сербии в 1806 г. Затем от Крагуеваца, резиденции князя Милоша Обреновича, в первые годы сербской самостоятельности; потом Ниш, этот оплот христианства при великом короле Стефане, который в XII веке освободил Сербию от византийского владычества; дальше Кружевац, столица царя-мученика Лазаря Бранковича, обезглавленного в 1389 г. на поле битвы под Коссовым, на глазах у умиравшего султана Мурата; затем Краниево, где в XIII в. св. Саввой была основана автокефальная сербская церковь; потом Рашка, колыбель сербского народа и древняя вотчина Немани; дальше Искюб, где знаменитый Душан венчался в 1346 г. "царем и самодержцем сербов, греков, айданцев и болгар"; вот Ипек, патриархат которого в долгие годы турецкого ига был прибежищем национального самосознания; одним словом, все святые места сербского патриотизма.
Спалайкович прибавляет:
- Подумайте, что это было за отступление; не забудьте тысячи беженцев, следовавших за армией. Подумайте, что это было!
И голосом, прерывающимся от волнения, он рассказывает мне, как престарелый король Петр, больной при смерти, не захотел оставить своих войск и следевал за ними на повозке, запряженной быками; старика воеводу Путника, тоже больного при смерти, несли на носилках; за ними шли длинные ряды монахов, несших на руках церковные святыни; они шли день и ночь по снегу, со свечами в руках и с пением молитв.
- Но ведь это эпопея, - говорю я - это из средневековых chansons de geste.
Вторник, 4 января.
Праздник георгиевских кавалеров дал императору повод еще раз подтвердить свою решимость продолжать войну; он обратился к армии с воззванием, которое оканчивается так:
"Будьте твердо уверены, что, как я уже сказал в начале войны, я не заключу мира, пока последний враг не будет изгнан из нашей земли. Я заключу мир лишь в согласии с союзниками, с которыми мы связаны не только договором, но и узами истинной дружбы и кровного родства. Да хранит вас бог".
Это самый лучший ответ на предложение о мире со стороны Германии, переданное через посредничество герцога Гессенского и графа Эйленбурга.
Четверг, 6 января.
По словам моего информатора, у которого есть связи с охранным отделением, вожди социалистических групп тайно собрались недели две тому назад в Петрограде (раньше они собирались в июле прошлого года); на этом совещании председательствовал трудовик Керенский. Главным вопросом являлось обсуждение программы революционных действий, которую "максималист" Ленин, эмигрант, живущий в Швейцарии, недавно защищал на социалистическом интернациональном конгрессе в Цимервальде.
Прения, открытые Керенским, по-видимому, привели в единогласному принятию следующих положений: 1) Постоянные неудачи русской армии, беспорядок и нерадивость в управлении, ужасающие легенды об императрице, наконец, скандальное поведение Распутина окончательно уронили царскую власть в глазах народа. 2) Народ очень против войны, причины и цели которой он более не понимает. Запасные все неохотнее идут на фронт; таким образом, боевое значение армии все слабеет. С другой стороны, экономические затруднения растут с каждый днем. 3) Поэтому очень вероятно, что в ближайшем будущем России придется выйти из союза и заключить сепаратный мир. Тем хуже для союзников. 4) Если мир этот будет заключать царское правительство, то он будет, конечно, миром реакционным и монархическим. А во что бы то ни стало нужно, чтобы мир был демократический, социалистический. Керенский резюмировал, будто бы, прения таким практическим выводом: "Когда наступит последний час войны, мы должны будем свергнуть царизм, взять власть в свои руки и установить социалистическую диктатуру".
Читать дальше