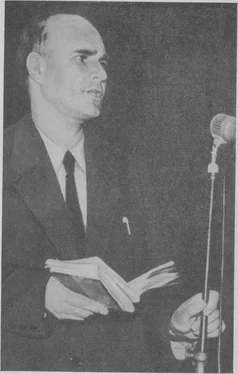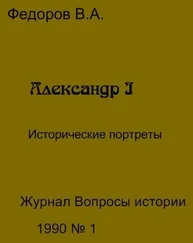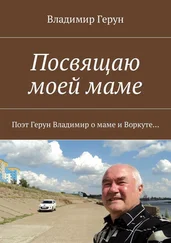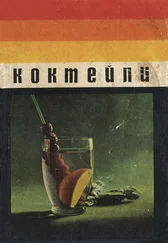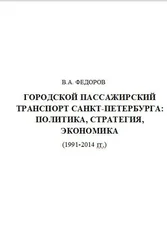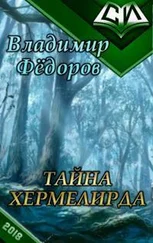О стихотворении «Не пришедший с войны» тепло отозвался и Константин Симонов. Через четыре года он в письме к автору повторил свою высокую оценку: «…Когда я заново прочел Вашу балладу, у меня снова мороз подрал по коже, как тогда, когда я читал ее первый раз несколько лет назад, и снова вслух захотелось читать ее первому попавшемуся человеку… Повторяю, Ваша баллада произвела на меня, когда я прочел ее впервые, и производит сейчас самое сильное впечатление. Мне вообще кажется, что это одно из самых сильных стихотворений о войне, которое мне довелось читать после войны в нашей поэзии…»
Пересказать эту балладу невозможно. Но проанализировать ее необходимо. Попытаемся это сделать. Я вновь и вновь перечитываю это удивительное стихотворение о лейтенанте, много лет лежащем в белой больничной палате. Он не помнит, кто он, но помнит, что надо вести роту в атаку.
За стеною,
Который не ведая год,
Человек,
Не вернувшийся с фронта, живет.
За высокой
Кирпичной Больничной стеной
Слышен крик по ночам:
«В наступление! За мной!»
…Спит земля.
Людям видятся добрые сны.
Но не спит человек.
Не пришедший с войны.
Почему всех нас так волнуют эти строки? Да потому, что поэту удалось не только рассказать об исключительной, трагической судьбе живого «человека, не пришедшего с войны», но и обобщить, собрать в единый фокус чувство фронтового братства и священное чувство долга, поставленного выше собственной жизни. А чувства эти живут в каждом фронтовике. Да, этот неистовый лейтенант есть в душе любого из нас. Это наша юность, наша совесть, то лучшее, что в нас есть. И в то же время эта баллада о конкретной человеческой судьбе, волнующей до спазм в горле:
Он не помнит
пи мать,
ни жену,
ни отца.
Снятся пули ему
Да осколки свинца,
Да внезапные вспышки
В тревожных ночах,
Да могилы друзей
В чужедальних полях…
Дыхание мирной жизни с гудящими поездами и растущими городами только углубляет трагизм судьбы вечного фронтовика. В «Не пришедшем с войны» пульсирует кровь горького и величественного фронтового поколения. Два плана — бытовой и философский, сливаясь, делают это произведение выдающимся в нашей поэзии. Его можно поставить рядом с такими вещами, как «Гренада» Ми–аила Светлова, «Мать» Николая Дементьева, «Смерть ионерки» Эдуарда Багрицкого и «Я убит подо Ржевом» Александра Твардовского. Нам не забыть лейтенанта, «не гришедшего с войны».
Только он не придет
Никогда, никогда:
Он в атаку идет,
Он берет города.
…Беспрерывно —
Уже восемнадцатый год —
Человек
в наступление
роту
ведет…
Не раз и не два автору этой баллады приходилось ходить в атаку. Враг был у самых ворот родного Кавказа. Окончив десятилетку в родной ставропольской станице Марьинской, юный поэт добровольцем в 1942 году ушел иа фронт. В боях на Северном Кавказе был дважды равен. После госпиталя направлен в красноармейский ансамбль песни и пляски. Еще в школе у него было три увлечения: литература, музыка и математика. В ансамбле литература и музыка подали друг другу руку: писал стихи в музыку к ним. А третье увлечение? Демобилизовавшись, парень из станицы Марьинской сдал экстерном экзамены на физико–математическое отделение учительского института, потом стал, как его отец, сельским учителем.
Но поэзия взяла свое. Вскоре я встретил могучего и застенчивого Валентина Марьинского в Литературном институте имени Горького. Николай Рыленков назвал его стихи «прекрасным образцом ясной и мужественной лирики».
А музыка? И она не забыта. На странице газеты «Советская Россия» появилась «Песня о курганах», где и стихи и музыка сочинены Валентином Марьинским. Мне в память врезался куплет:
Солдат, видно, пьяным от радости был,
Когда он с победой домой уходил.
Приладил он ловко
Шинель и винтовку,
А юность в окопе забыл…
Как–то мне довелось присутствовать на заседании редколлегии журнала «Огонек», где были прослушаны две новые песни Валентина Марьинского. «Огонек» и раньше печатал его песни. Но тогда автором музыки был профессиональный композитор. А тут… В руках моего друга была гитара, которая больше походила на фронтовую, чем на нынешние, модные — «голубые». Собравшиеся напряженно слушали, а потом долго не могли решить, какую же песню печатать — торжественно–задумчивую «Не пришли мы с войны» или же задушевную «Тополек». Понравились обе. Это были его последние песни.
Читать дальше