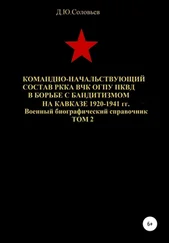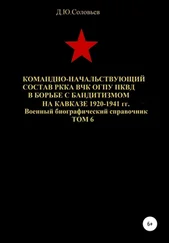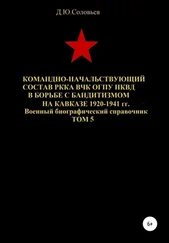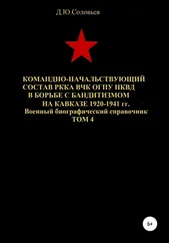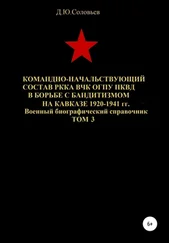Мама моя всегда поддерживала достаточно обширные связи с родственниками, как со своими, так и с мужниной стороны, со знакомыми и сослуживцами. Только в цитируемых нами письмах упоминалось ею около 50 имён людей, которые останавливались или заходили в гости в наш ленинградский дом, с кем имелась периодическая почтовая связь, деловые, служебные либо дружеские взаимоотношения. Отец очень лояльно относился ко всем родственноделовым контактам супруги, полностью доверяя ей вести всю празднично-бытовую переписку и осуществлять личные встречи, поскольку сам большее время пропадал на работе. Мне прекрасно известно, что папа в силу своего служебного положения помог очень многим людям, так как в ту пору без протекции сверху не было возможности решить многие, даже малозначительные, бытовые вопросы.
Очередной отпуск, видимо, за два года сразу, отцу предоставили с 20 января по 17 марта 1941 года. С его приездом в Ленинград начались наши сборы в дальнюю дорогу, оказавшиеся весьма продолжительными. Последние мамины тайные надежды на то, что папу всё-таки отпустят из Казахстана, окончательно рухнули. Перед своим приездом отец сообщил, что «о каких-либо переводах и речи быть не может». Однако использовать свой отпуск для того, чтобы перевезти семью в Алма-Ату, отцу не удалось. В начале февраля в НКВД начались широкомасштабные преобразования (о которых будет рассказано ниже), и Богданову пришлось преждевременно вернуться в столицу Казахстана одному.
Мама уволилась с работы 1 февраля 1941 года, а в путь мы тронулись не раньше апреля. Так волею случая мы спокойно и с достаточным комфортом покинули Северную Пальмиру и прибыли в далёкий солнечный город совсем незадолго до начала страшной войны. Даже в кошмарном сне никто не мог представить себе, что начнётся в городе на Неве буквально через пол года — кровопролитные бои, блокада, обстрелы, голод, холод, смерть…
Глава 20. Алма-Ата. Накануне и в начале войны
По прибытии в столицу Казахстана наша семья поселилась на улице Абая в небольшом одноэтажном доме, к которому примыкали двор и сад. После тесноты и сырости ленинградской квартиры, промозглой влажности невской дельты, здесь, в предгорьях Тянь-Шаня, на просторном, ограждённом от опасностей зелёном участке, под жарким майским солнцем невозможно было сыскать лучше места для наших детских забав. Да и родители, радуясь долгожданному воссоединению семьи, чувствовали себя неплохо. В редкие часы отдыха папа занимался садом и огородом, привлекая и нас, своих сыновей, к посильному труду. Любимым делом был (как здесь, так и в последующих пяти садах, в которых нам на протяжении семейной истории посчастливилось жить) уход за яблонями — подрезка, подкормка, опрыскивание и прочее, а также обустройство парников для выращивания ранних огурцов. Надо отдать должное, что всё это отцу с успехом удавалось — с его лёгкой руки у нас всегда полно было фруктов и овощей (как широкой папиной душе и хотелось), и мы не только себя обеспечивали полностью, но плодами собственного урожая безотказно снабжали родственников и знакомых.
А мама, попав на свободу , как она писала своему бывшему коллеге, после напряжённой работы в ленинградской клинике решила немного передохнуть и не сразу впрягаться в местный медицинский возок. «В театре я здесь часто бываю, за месяц 5–6 раз, не как в Ленинграде. Труппы приличные. Декорации замечательные. В общем, смотреть вполне можно, — делилась мама свежими впечатлениями. — Ездили несколько раз в горы, на озеро. Природа богатая, масса зелени, тепло. Сады давно отцвели, зреют плоды. А в саду — масса роз всех цветов и оттенков». После стольких месяцев томительного ожидания и постоянных переживаний мама, наконец, могла сделать вполне утешительный вывод: «Жить можно и даже неплохо».
Папа не торопил свою супругу, чтобы она скорее приступила к работе. Наоборот, ему хотелось, чтобы мама как можно больше внимания уделила нам, детям. Да и сердечко мамино в казахстанском климате страдало «недостаточностью митрального клапана», что требовало временного освобождения от нагрузки и проведения определённого курса лечения. Работать мама стала сразу с началом войны и была назначена на должность ординатора клиники акушерства и гинекологии в Казахском Государственном институте им. В.М. Молотова. В 1943 году её перевели на должность ассистента. В годы войны врач Н.В. Котова хотя и работала в тылу, но находилась на военном учёте, была аттестована в офицерском звании и дослужилась до капитана медицинской службы.
Читать дальше

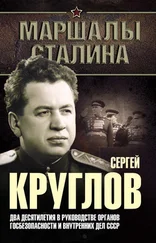
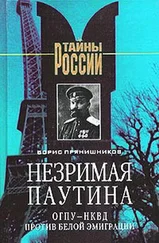


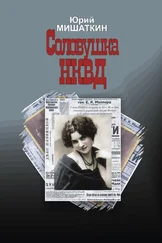
![Юрий Богданов - Министр сталинских строек [10 лет во главе МВД]](/books/427796/yurij-bogdanov-ministr-stalinskih-stroek-10-let-vo-thumb.webp)