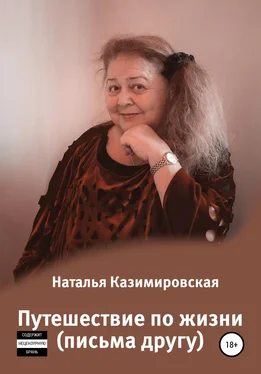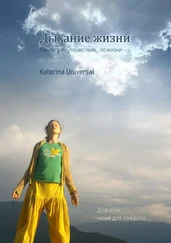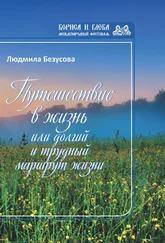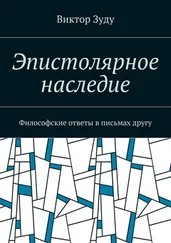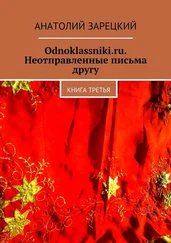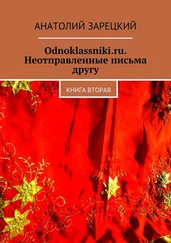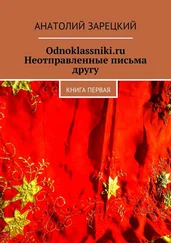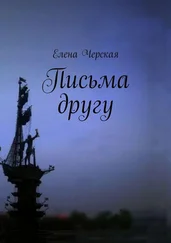В зимние каникулы я с благословения моего любимого папы отправилась в Саратов, уселась плотно в директорской приёмной и сообщила слегка ошеломлённому директору, что не сдвинусь с этого места, пока меня не примут назад. «Доконала родителей?» – спросил он коротко, и я была возвращена в альма-матер! (Всю жизнь я была ему за это благодарна! Когда через множество лет, прилетев в Саратов из Швеции, я нашла его – старенького больного алкаша – и обрушила на него море подарков, он заплакал.)
Так я «ушла» из родительского дома. Мне было шестнадцать лет. Родители и Эдик поделили расходы на меня: 100 рублей – 50 плюс 50. Этого мне с лихвой хватало на оплату койки для жилья, оплату съёмного пианино для занятий и на пирожки с бочковым кофе в ближайшей забегаловке. Иногда я устраивала себе пир: покупала на Крытом рынке зелёный лук, огурцы, редиску и мягкую непересушенную воблу и наслаждалась… Частенько забегала к приятельнице, пышногрудой официантке в кафе напротив консерватории, и угощалась блинчиками, политыми маслом и посыпанными сахаром. Так я легко и весело пережила голодные годы в Саратове, проходя мимо всех людских очередей за продуктами: мясом, колбасой, яйцами и лишь мельком пробегая глазами по пустым магазинным полкам с пирамидками консервных банок, – салатом из морской капусты.
А ещё у меня были друзья – мальчишки моего двора. Всё свободное время я проводила с ними, в основном играя во дворе в настольный теннис. Играла я неплохо (впоследствии даже получила какой-то разряд), один раз потрясла их воображение тем, что, крутанувшись неудачно, зацепилась за что-то плиссированной юбкой и, порвав её от подола до талии, продолжила игру до конца, сверкая трусами и ляжками (гордость не позволила мне убежать сразу!). Особенно любила я Вовку Левинсона – здорового крепкого брюнета (впоследствии выяснилось, что его мама – двоюродная сестра актёра Э. Виторгана, не проявлявшего, впрочем, никакого интереса к своим «незнатным» родственникам) и рыженького обаятельного шутника Лёню Гурьянова. С этими двумя мальчиками я поддерживала связь очень долго. Они оба получили «практичные» профессии, как и положено еврейским мальчикам без особого образования. Вовка стал часовщиком и гравёром, работал в собственном киоске на бойком месте в помещении городского рынка (что-то он мне даже когда-то выгравировал и что-то починил), всю жизнь прожил в Саратове, был заядлым охотником, страшно растолстел (хотя вечно дразнил меня и мою подружку Васильченко за отсутствие талии), заболел и, к моему великому горю, умер. Лёнька работал фотографом, впоследствии подавал какие-то признаки жизни из Израиля, был, по-моему, женолюбом и одновременно подкаблучником, потом исчез с моего горизонта… Оба мальчика, уже будучи взрослыми, признавались мне, что невзирая на всяческие ехидства, дразнилки и внутренние разборки, они сами и ещё пара мальчишек нашего двора были в меня влюблены. Думаю, что я это чувствовала и поэтому ни на что по-настоящему не обижалась, а «купалась» в этом мальчишечьем обожании, а сама думала только о Безродном.
Итак, вернувшись в Саратов и начав новую жизнь без родителей, я оказалась в комнате вдвоём с какой-то бабулькой, в квартире с общей кухней, с соседями, взрослый и женатый сын которых выказывал мне всяческое расположение. Всё это меня никак не задевало и не волновало, а находилось на периферии жизни, главное действие которой проходило на перекрёстке улиц Радищева и Кирова. В шесть утра открывалось музучилище, и я приходила в это время туда, чтобы ухватить возможность позаниматься пару часов до восьми утра, до начала занятий, до прихода остальных студентов. Потом шли обычные занятия. В обеденные часы я бежала в квартирку напротив, где одна предприимчивая бабулька сдавала пианино для занятий. А поздно вечером возвращалась назад в училище и занималась ещё два часа до закрытия. Шесть часов ежедневных занятий, академические концерты, выступления. Сцену я любила, волновалась, конечно, но любила. Любила учителей! Благородного вида старец Гончаров, преподаватель камерного класса, в вечно усыпанном перхотью пиджаке, беспрестанно певший в унисон с нашей игрой, его жена – старенькая Неверова – преподаватель фортепиано, холодная и белокурая Воскресенская – жена «злобненького» завуча, которого мы все побаивались; суховатая и жестковатая на вид, но на самом деле довольно трогательная выпускница ленинградской консерватории Ирина Николаевна Иванова. И, конечно, два наших консерваторских профессора, которые тоже имели учеников в училище: экстравагантный и смешной в своём вечном беретике Семён Соломонович Бендицкий, ученик Нейгауза, и вальяжный, слегка надменный красавец Борис Гольфедер. Сольфеджио и гармонию у нас преподавал теоретик и композитор Виктор Владимирович Ковалёв – автор балета «Девушка и смерть», в прошлом муж известной в те годы оперной певицы Галины Ковалёвой и, по слухам, «сделавший» её. Через много лет мы с подружками признались ему в «страшном преступлении». Мы – яркие пианистки, музыкальные, темпераментные, довольно виртуозные, но у троих из нас был довольно посредственный слух, и сдать прилично госэкзамен, написав трёхголосный диктант, было просто невозможно! Верхний и средний голоса ещё реально, но бас… И мы придумали! Посадили прямо перед нами нашу подружку Васильченко, единственную из нас, кто обладал абсолютным слухом, и она, заложив левую руку за спину, продиктовала нам весь нижний голос: один палец – До, два – Ре, три – Ми, четыре – Фа, пять – Соль, кулак –Ля, комбинация из трёх пальцев – Си! Все мы – четверо – сдали госэкзамен на «отлично»! Выслушав наше признание, Ковалёв не только не возмутился, но пришёл в восторг и, как говорят, рассказывал следующим поколениям студентов о нашей изобретательности!
Читать дальше