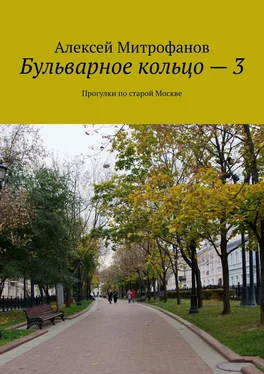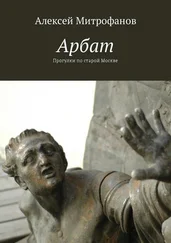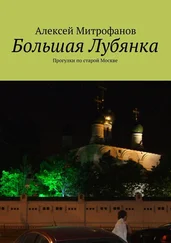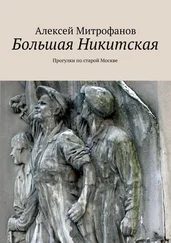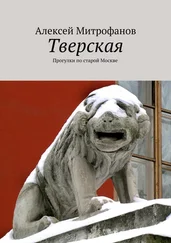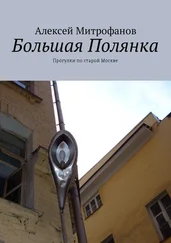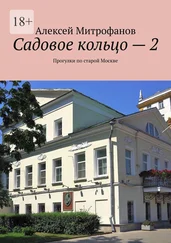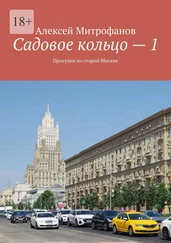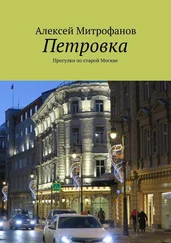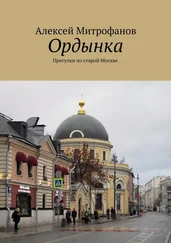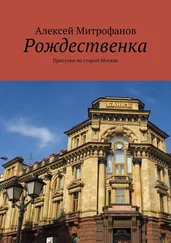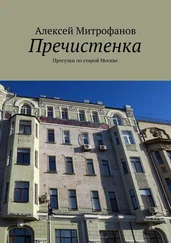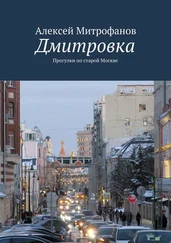Сеттера, вероятно, вернули владельцам.
Все это – случаи малоприятные. И, к счастью, абсолютно не характерные для одного из уютнейших московских бульваров – Рождественского. Уютнейших и, в общем, не особенно богатых на истории. Краевед В. Никольский писал в книге «Старая Москва» (1924 год): «Оба этих бульвара нечем помянуть историку,» – имея в виду как Рождественский бульвар, так и соседней, Сретенский.
А бытописатель Загоскин рассказывал: «Положим, что вы теперь на Кузнецком мосту, – уж тут, конечно, ничто не напомнит вам о деревне; но сверните немного в сторону, ступайте по широкой улице, которая называется Трубою, и вы тотчас перенесетесь в другой мир. Позади, шагах в пятидесяти от вас, кипит столичная жизнь в полном своем разгуле; одна карета скачет за другою, толпы пешеходцев теснятся на асфальтовых тротуарах, все дом унизаны великолепными французскими вывесками; шум, гам, толкотня; а впереди и кругом вас тихо и спокойно. Изредка проедет извозчик, протащится мужичок с возом, остановятся поболтать меж собою две соседки в допотопных кацавейках. Пройдите еще несколько шагов, и вот работницы в простых сарафанах и шушунах идут с ведрами за водой. Вот расхаживают по улице куры с цыплятами, индейки, гуси, а иногда вам случится увидеть жирную свинку, которая прогуливается со своими поросятами. Я, по крайней мере, не раз встречался с этим интересным животным не только на Трубе, но даже и на Рождественском бульваре. Вероятно, во всех столицах после проливного дождя бывают лужи по улицам, но вряд ли в какой-нибудь столице плавают утки по этим лужам, а мне случалось часто любоваться в Москве этой сельской картиной».
Впрочем, не все так печально. И в 1918 году, сразу же после революции этот бульвар был активно задействован в так называемой ленинской программе монументальной пропаганды. Здесь, рядом с Трубной площадью 3 ноября установили гипсовый памятник поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко работы скульптора С. М. Волнухина.
На церемонии открытия выступила А. М. Коллонтай.
Газета «Коммунар» писала 5 ноября 1918 года: «З ноября, по случаю открытия революционных памятников в Москве, с утра начались рабочие и красноармейские шествия. Особенно привлекли внимание публики памятники Тарасу Шевченко и Максимилиану Робеспьеру. У этих памятников публика толпилась до позднего вечера».
Николай Окунев писал того же 5 ноября 1918 года, но в своем личном дневнике: «3-го ноября в Москве открыты памятники Т. Г. Шевченко, И. С. Никитину, А. В. Кольцову и французскому революционеру Робеспьеру. Собственно, это еще не памятники, а „эскизы“ их. Я видел, например, памятник Шевченко: фигура, кажется, из глины, пьедестал из досок. До первой хорошей непогоды, – и он весь разрушится, без остатка от творчества Волнухина».
Вскоре после установки памятника возник проект изготовления его из более долговечного материала. Однако, скульптор умер, так и не успев реализовать этот проект. А памятник – в соответствии с прогнозами Н. Окунева – тоже развалился, и притом довольно быстро.
Кстати, упомянутый дом №3 не сохранился. Левая сторона бульвара начинается с современного, достаточно безликого строения, построенного уже в новейшее время.
Не осталось ничего и от начала противоположной стороны. Ни магазина «Охотник», ни гомеопатической лечебницы, ничего того, что помнят люди еще, в общем-то, не очень старые.
Общественный туалет в торце бульвара тоже исчез. Он был встроен в крутой холм и считался своего рода городской достопримечательностью.
* * *
Справа – Рождественский монастырь. Мы писали о нем в книге «Прогулки по старой Москве. Рождественка». Можем добавить историю, описанную исследователем московских храмов Петром Паламарчуком: «После закрытия монастыря определенное число послушниц продолжало жить в его келиях. К 1978 г. в живых оставались двое – Варвара и Викторина. В этот год сосед Варвары, по профессии переплетчик, задушил ее, украл несколько малоценных икон и попытался скрыться, но вскоре был пойман и осужден на тюремное заключение сроком ок. 10 лет. Викторину в 1979 г. взяли к себе жить в другой район города сердобольные люди – ей тогда было уже за 90 лет и она почти совсем ослепла.
Год или два спустя на таможне попался пытавшийся провезти за границу церковные ценности спекулянт. Оказалось, что среди этих ценностей находится множество вещей из ризницы Рождественского монастыря. После этого к расследованию обстоятельств убийства Варвары вернулись снова, и тогда при помощи москвоведов и старожилов выяснилось, что она была не простою послушницей, а казначейшей обители и ближайшей подругой последней настоятельницы, которая ей перед смертью передала на сохранение наиболее чтимые святыни. Сосед-переплетчик был лишь подставным лицом большой компании профессиональных христопродавцев, каким-то образом разузнавших эту тайну; «сел» он нарочно с малоценными вещами, чтобы отвести подозрения от главарей.
Читать дальше