в городе, где всё мне незнакомо,
где забит балетными отель,
названном по имени наркома
как противотанковый коктейль.
И у края жизни непочатой
выживаю с прочими детьми
Я – москвич, под бомбами зачатый
и рожденный в городе Перми,
где блаженно сплю, один из судей
той страны, не сдавшейся в бою,
чьи фронты из всех своих орудий
мне играют баюшки-баю.
Воспряну ото сна,
откину одеяло.
Окончилась война,
а мне и дела мало!
И только об одном
жалею в те минуты –
что смолкли за окном
победные салюты.
И, выровняв штыки,
идут без остановки
геройские полки
по улице Ольховке.
Ах, мама, ордена
какие у танкиста!
Ну почему война
закончилась так быстро?..
В бледные окна сочится рассвет.
Сны угасают – и сходят на нет.
Сизой поземкою занесены
послевоенные долгие сны.
Как бы в последнее впав забытьё,
видят сограждане: каждый – своё.
Видит скрипач Копелевич к утру
дочь, погребённую в Бабьем Яру.
Видит Вахитова, наш управдом,
мужа, убитого в сорок втором.
Видит Сабуров, слепой гражданин,
бой за Проскуров и бой за Берлин.
…Первый по рельсам скрежещет вагон.
Поздние сны улетают вдогон.
Тонут в снегу проходные дворы –
как проходные в иные миры.
О коммунальная юность моя!
Все возвратится на круги своя.
Запах побелки и запах борщей.
И не безделки – в основе вещей.
Что поколеблет, а что упадёт?
Дело не терпит и время не ждет.
…Дым поднимается к небу прямей.
Семь поднимаются хмурых семей.
Семь керогазов на кухне горят,
хлопают двери и краны хрипят.
Хлопают двери – и, сон поборов,
семь в унисон голосят рупоров.
Бодро внушает нам бодрая речь
бедра поставить на уровне плеч.
Преподаватель Гордеев не зря
будит Россию ни свет ни заря.
Все думали, что с Гитлером война
продолжится не годы, а недели.
И, сев у затемненного окна,
с надеждой в репродукторы глядели.
Как будто возвестить мог Левитан,
что, накопив войска свои поодаль,
мы совершили яростный таран
и прорвались на Вислу и на Одер.
И что часы фашистов сочтены
и в Руре пролетарии восстали…
Но мы уже оставили Ромны
и к Харькову с боями отступали.
И мать моя, беременная мной,
не ожидая помощи Европы,
по выходным копала под Москвой
крутые, полных профилей окопы.
За пять минут до битвы Курской,
как водится, в тени ветвей,
на полосе ничейной, узкой
шальной защелкал соловей.
За пять минут до канонады,
в лесу, на линии огня,
он выводил свои рулады,
в ночи отчаянно звеня.
Но бог войны, тоской объятый,
с азартом сумрачным в крови
воскликнул: «Чур, певец проклятый,
певец небес, певец любви!».
И пушки грянули. И стыла
рванулись танки на простор.
…И в мире стало все как было,
как всё в нём было до сих пор.
Октябрь сорок первого года.
Патруль по Арбату идет.
И нет на вокзалы прохода.
И немец стоит у ворот.
И прусский полковнику Химок,
сглотнув торжествующий вопль,
как будто бы делая снимок,
навел на столицу бинокль.
А что же столица?
Стол и ца
глядит тяжело и темно,
как будто всех жителей лица
столица сплотила в одно.
Бредут от застав погорельцы,
в метро голосят малыши,
и вбиты железные рельсы
крест-накрест во все рубежи.
Нестройно поет ополченье,
соседи дежурят в черед,
и странное в небе свеченье
заснуть никому не дает.
…Но, смену всемирных коллизий
приблизив незримой рукой,
пехота сибирских дивизий
грядет, как судьба, по Тверской.
Но знает у ржевского леса
стоящая насмерть родня,
что в доме напротив МОГЭСа
к весне ожидают меня.
Меня прикрывает столица,
меня накрывает беда.
И срок мой приходит – родиться
теперь – иль уже никогда.
Бьют пушки,
колеблются своды –
и время являться на свет!
Октябрь сорок первого года.
Назад отступления нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
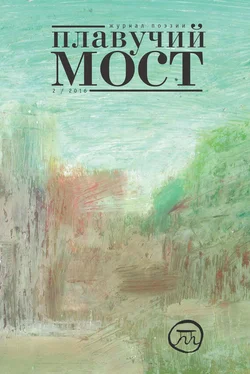




![Коллектив авторов - Сад любви. Из английской романтической поэзии [litres (Метод обучающего чтения Ильи Франка)]](/books/414585/kollektiv-avtorov-sad-lyubvi-iz-anglijskoj-romanti-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик [litres]](/books/430776/kollektiv-avtorov-f-v-bulgarin-pisatel-zhurna-thumb.webp)





