Подушечки ленивых пальцев – глянь,
измазаны зелёнкой гусеницы,
но эта не какая-нибудь дрянь,
а жидкость сна, что насекомым снится.
Она сидит на маленьком холме,
желая кушать завтрак свой нехитрый,
его перечисленье в радость мне:
пушистый персик, никогда не бритый,
большого хлеба пористый кусок,
яйцо, чей кальций мал для небосвода
(но в самый раз яйцу), и не брусок –
брусочек масла немужского рода,
и муравьи (она проглотит двух)…
Округа покрывается движеньем,
как плёнкой – глаз, как глухотою – слух,
как зеркало покрыто отраженьем.
(Пока ты жив, всё умирает, но,
пока ты мёртв, всё тоже умирает,
но смерти нет, и нет давным-давно,
хотя об этом люди мало знают,
поскольку смерть на первый взгляд верна,
а на второй – смешна и суетлива,
на третий – бескорыстна и странна,
на пятый – беспощадна и ленива,
но на шестой – она идёт на нет,
а слова «нет» в природе не бывает:
за ним темнеет непонятный свет,
который темнотой себя скрывает.
И это непонятно, но легко,
но жидко, но солено и прекрасно.
Прекрасное на самом деле то,
что в красоте не уместилось. Ясно?)
Летают птицы об одном крыле,
и синий воздух их не понимает,
мир нарисован на его стекле
и в девушке частями исчезает.
Она не говорлива, но скромна,
она любвеобильна, но не очень,
она сегодня именно она
и ею будет до начала ночи.
И то, что вместо сердца у неё
на самом деле – золотой котёнок,
что глазками, как точками над Ё,
таращится, испуганный, спросонок –
пускай, пускай; вокруг него – вода
испачканной самой собою крови…
Природа, проползая в никуда,
не шумы издаёт, а шорох боли.
И девушка волнистая, как путь
небритого, как персик, шелкопряда,
легла вокруг природы отдохнуть,
ну, не вокруг (хотя вокруг!), а рядом.
Потом наступит древнее потом,
и девушка, не ябеда, не злюка,
сойдя с холма, исчезнет за холмом,
неся в руках пучок лесного лука.
И видя, как мелькают у земли
её уже натоптанные пятки,
исчезнет лес, и загудят шмели
и тоже растворятся без оглядки.
Младенцы, что родятся в этот миг,
(из них погибнет более две трети)
не крик исторгнут, исторгая крик,
а клич сраженья, обращенный к смерти.
И не узнав, кто им на свете мать
(но вы-то догадались?), по приказу
они уйдут красиво умирать
и неумрут, по крайней мере, сразу…
Это жаркое лето, которое станет зимой,
беспардонно озвучило наше с тобою молчанье.
Голоса, улетая на юг, где назойливый зной
их давно ожидает, останутся с нами случайно.
Прибывает вода, прибывает большая вода,
скоро выйдут дожди разгибать свои жидкие спины.
Ты, наверное, скоро умрёшь, но не бойся, когда
это станет фрагментом почти очевидной картины.
Ты, наверное, скоро умрёшь, я умру за тобой
через (страшно подумать) четырнадцать лет или восемь,
и огромная память, покрытая страшной водой,
воплотится – теперь уже точно – в последнюю осень.
Будут хлопать, взрываясь, комки пролетающих птиц,
отменив перспективу, себя горизонт поломает,
и границами станет отсутствие всяких границ,
и не станет тебя, потому что возьмёт и не станет.
Ты красиво умрёшь, ты умрёшь у меня на руках,
или нет – ты умрёшь на руках у другого мужчины,
это он будет пить твой с лица истекающий страх
три мгновени до и мгновение после кончины.
Треск лесной паутины… по-моему, именно он
воплотите в хрипение свечек в побеленном храме,
где какие-то деньги шуршать не устанут вдогон
мимолётным молитвам, которые будут словами.
Будут камни лежать; их под кожей солёная плоть –
кристаллический воздух для духов подземного горя,
оным, видимо, нравится каменный воздух молоть,
выдыхая остатки в пустыни песочного моря.
И, не зная зачем это всё я тебе говорю,
я тебе это всё говорю как нельзя осторожно,
потому что умрёшь, потому что я песню пою,
потому что нельзя это петь, но не петь невозможно.
Я смотрю тебе в спину, которая движется вдоль
засекреченной улицы в сторону грязного рынка:
между тонких лопаток твоих начинается соль,
поясню – продолжая нетвёрдую нежность затылка,
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
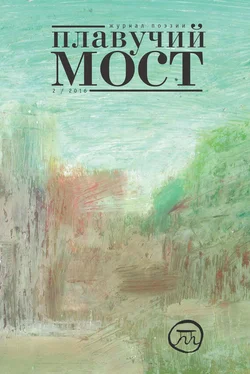




![Коллектив авторов - Сад любви. Из английской романтической поэзии [litres (Метод обучающего чтения Ильи Франка)]](/books/414585/kollektiv-avtorov-sad-lyubvi-iz-anglijskoj-romanti-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик [litres]](/books/430776/kollektiv-avtorov-f-v-bulgarin-pisatel-zhurna-thumb.webp)





