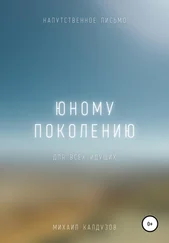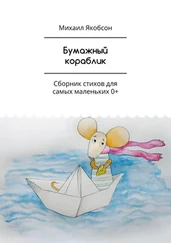Обживать же нашу улицу по-настоящему мы стали, вступив во «взрослую», школьную пору. За улицей Л. Толстого, буквально до Гренадерских казарм, располагался огромный пустырь. На топографических картах подобные территории обозначают термином «изрыто». Ведь так и было, кругом овраги да воронки, кучи строительного мусора. До жилых домов далеко, поэтому бегали туда озорничать. Жгли костры, пекли в золе принесённую из дома картошку. Где-то на территории 1-го меда раздобыли ящики с пустыми медицинскими пузырьками и, соревнуясь в меткости, били их из рогаток и пневматики. Однажды кто-то постарше привёз с мест боёв на Карельском, скажем так, опасные изделия. Бросали их в костёр и наблюдали канонаду. И, как говорится, Бог миловал. Позже тут началась стройка корпусов клиник профессоров Углова и Колесова. Территорию обнесли забором, а чтобы снаружи было интереснее, чем внутри, по линии забора установили пивной ларёк. Нас привлекала возможность, постояв в небольшой очереди, побыть в обществе «предвкушающих» взрослых, почувствовать энергетику этого пусть и специфического, но мужского «братства». Здесь мы впервые в холодный период попробовали и пиво с подогревом. Его наливали по просьбе, напиток действовал мягко и быстро. И это удовольствие стоило тогда 11 копеек за маленькую кружку, большую выпить ещё не могли.
В новом доме на углу с улицей Л. Толстого, постройки 1957—1959-х годов, жил с родителями наш одноклассник. Этот красивый пятиэтажный дом позднесталинской архитектуры почему-то не имел лифтов и тоже оказался коммунальным. В трехкомнатной квартире жили три семьи. В коридоре на стене висел график уборки общих мест. Перед первым школьным Новым годом в конце второй четверти меня отпустили одного вечером к другу, чтобы вместе изготовить ёлочное украшение – «китайский» фонарик из цветной бумаги. Обратно шёл в валенках по нашей заснеженной пустынной улице, в руках пакет из старой газеты с рукотворным фонариком. Тогда и в это позднее время на улице было безопасно. Шёл мимо заводского корпуса, работа кипела – видимо, вторая смена. Зарешеченные окна на первом этаже были приоткрыты, между рам стояли стеклянные полулитровые бутылки молока, женщины в рабочих халатах и косынках, весело переговариваясь, выставляли на поддон готовые изделия. Мягко «отфыркивались» прессы, пахло горячей пластмассой. На это техногенное вторжение в ландшафт нашей тихой улицы мы тогда не сердились. У многих близкие работали на заводах «Вибратор», «Пирометр», «Полиграфмаш», содержали семьи, укрепляли страну.
В соседнем бывшем доходном доме с элементами «былого благородства» на фасаде жили несколько ребят из нашей школы. Одноклассник с родителями и старшей сестрой занимали комнату, тоже коммуналки, на первом этаже с окнами на улицу Рентгена и школу на противоположной стороне. В этой школе в ту пору организовывали избирательный участок для нашего микрорайона. На выборы старшие всегда брали нас с собой, и там обязательно покупалась какая-нибудь недорогая детская книжка, например, «Сказка о золотом петушке» Пушкина или с рассказами о животных и иллюстрациями Чарушина, который, как оказалось, тоже одно время жил в этом доме. Отец школяра работал поваром в кулинарии на Большом проспекте. Она размещалась в полуподвале, по диагонали напротив кинотеатра «Молния». Помните такой продукт, как отварная курица? А куда девался бульон? Правильно, приятель с двухлитровым алюминиевым бидончиком, иногда по просьбе родителей, приходил туда «заправиться» – не пропадать же добру!
К сожалению, было на нашей улице и одно неприятное место, «серая зона». Нежилое здание, которое мы старались обходить по противоположной стороне улицы. Тогда там располагался виварий с подопытными собаками. Они сутками безнадёжно скулили и заходились в хриплом лае. Это место представлялось нам прибежищем тёмных сил, будто пыточный застенок.
Наша улица в те годы не имела сквозного проезда транспорта, да и машин было мало. Поэтому многие прямо на улице обучались езде на велосипедах, роликах, а кто-то позже и на мотоциклах. Из общественных заведений была сберкасса в доме № 6 да небольшой гастроном на углу улицы Л. Толстого. Он запомнился тем, что в самые проблемные 90-е годы в нём иногда можно было купить хорошей ветчины. И тогда это казалось просто чудом.
Рассказывая о своей Лицейской, было бы логично поддержать планку пафоса, как «счастья проживания» на родной улице… Однако её название именем Рентгена оказалось, к сожалению, не случайным и таило опасные неприятности. Во дворе дома № 2 в 70-е годы внезапно возникло глухое ограждение, закипели какие-то земляные работы. Рабочие пояснили, что проводилась выемка радиоактивных материалов и дезактивация грунта. Сюда, тогда на послевоенном пустыре, незадачливые сотрудники РИАНа предположительно закапывали и выливали отходы проводимых экспериментов. А почти 20 лет здесь жили люди, играли дети. Вспомнилась и бетонная плита, возможно, могильника отходов на территории института Рентгена. Мальчишками мы беспрепятственно лазали через их забор и в мусорных баках отыскивали пластины свинцовой защиты для использования в своих рыболовных снастях. Экраны же тогдашних домашних телевизоров чутко реагировали внезапной мелкой рябью на включение циклотрона – гордости института той поры. Одним словом, прожили долгие годы на нашей Лицейской, почти как «сталкеры» у Стругацких. И то, что многие до сих пор вроде как в здравии, уже немало.
Читать дальше


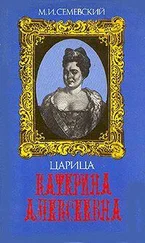
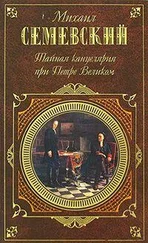


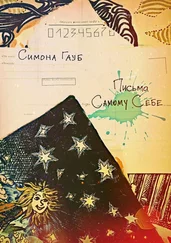
![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том II [Самая полная энциклопедия]](/books/427750/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-ii-samaya-thumb.webp)
![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том I [Самая полная энциклопедия]](/books/427751/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-i-samaya-p-thumb.webp)