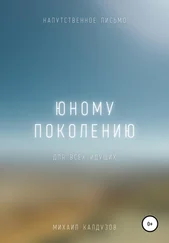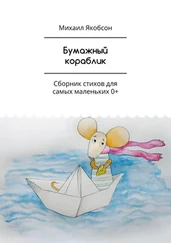Начальник училища с семьёй жил в нашем доме. Казался высокомерным, надутым, будто всегда чем-то недовольным. С нами не здоровался, похоже, был обижен, ведь отправили в отставку вскоре после присвоения генеральского звания. Может, что не дали вволю находиться в штанах с лампасами? Надевал их только на празднования 1 Мая и 7 Ноября. Раздобревший живот перетягивал ярко-жёлтым с золотой нитью парадным поясом, сбоку пристегивал кортик. Мы дерзко передразнивая и «прикалываясь», тоже цепляли на пояс игрушечные алюминиевые в пластмассовых ножнах кортики. Так и встречали его в нашем дворе. Как-то обратил внимание, что из окон генеральских квартир, а в нашем доме их было три, ни разу не слышал звуков живой музыки, клавиш пианино, струн гитары, скрипки. А как было раньше? Навскидку:
С. Рахманинов: отец и дед по матери (генерал Бутаков) – военные;
М. Глинка: отец – отставной капитан;
А. Бородин рос в доме отчима, военного врача;
М. Мусоргский по семейной традиции с малых лет учился в школе гвардейских прапорщиков, затем кавалерийских юнкеров;
Н. Римский-Корсаков – из семьи потомственных морских офицеров, да и сам офицер, старший брат – будущий контр-адмирал.
Все они с рождения слышали живую, исполняемую близкими музыку ещё дома.
Среди наших школяров музыкой занимались немногие. Кто-то – в музыкальной школе на Большом проспекте, приятель – в ДПШ, а кто-то и в нашей музыкальной школе на Кировском, в помещении особняка С. Витте. Этого ярого оппонента П. Столыпина ещё до революции называли «Полусахалинским», ведь именно он возглавлял делегацию России и подписал акт позорной капитуляции с передачей Японии половины Сахалина и Курильских островов. Тогда эскадра России в Японском море была разгромлена, сдан Порт-Артур. Наша «Аврора» геройски участвовала в тех событиях, чудом вырвалась из окружения и на остатках угля, с изрешечённым корпусом, нашла временное спасительное пристанище на американских Гавайях.
В 90-е в одну из этих музыкальных школ напросился сын нашего школяра Андрюша Терёхин. Жили-то неподалёку. В их комнате большой коммуналки инструмента не было вовсе. Стервозные соседи, да и годы отчаянного безденежья. Мальчишка на склеенной из нескольких листов бумаги ленте расчертил клавиатуру и занимался беззвучно, лишь тактильно имитируя требуемые движения пальцев. В школе этого не знали, но отмечали дарование. Правда, завистников хватало, да и характер паренька был непрост: после замечаний замыкался, а то и вовсе молча впадал в ступор. С ним ладила только учительница сольфеджио Елена Александровна, и он доверился ей, её тихому ласковому голосу, кустодиевскому несовременному облику с уложенной вокруг головы русой косой. С её помощью он оказался участником серьёзного международного конкурса и неожиданно для всех стал лауреатом, заняв второе место, первое было «забронировано» для отпрыска «уважаемого» товарища. Закончил консерваторию, аспирантуру. Где он нынче – не знает никто, может, концертирует за рубежом, преподаёт в Китае или «скромно» служит органистом в лютеранской кирхе одной из скандинавских стран. Вспоминал ли свою учительницу, что не дождалась ни писем, ни звонков?
Ну а мы, школярами, топали к своей цели дальше, мимо сказочного дома Лидваля, далее, перейдя Кировский, минуя памятник «Стерегущему», углублялись в Александровский парк (тогда Ленина). В тёплое время года с обратной стороны памятника по трубе подавалась вода, журча, она неспешно изливалась из открытого кингстона. Памятник поэтому казался живым. Теперь этого нет, объясняют порчей бронзы. Далее выходили на пляж Петропавловки. Тут с апреля можно было позагорать, а в конце мая даже окунуться в замазученные невские воды. Забирались и на открытые площадки верха бастионов крепости, конечно, задерживались у сигнальных пушек – нашего питерского полуденного метронома. Оказалось, что именно отсюда, а вовсе не с «Авроры», прозвучал тот легендарный октябрьский пушечный выстрел. Историю с «Авророй» выдумал некто Курков, бывший матрос, затем красный функционер, не переживший, правда, рокового самоистребления той номенклатуры. Зато эта байка позволила сохранить для нас крейсер, героя русско-японской войны 1905 года. Пусть так.
От равелинов, бывших тюремных застенков, веяло холодом, даже порой и жутью. Сколько узников сгинуло тут с времен княжны Таракановой – не перечесть. Ботик – лодка Петра – позволял немного «оттаять». Помню и экскурсию на Монетный двор во дворе крепости. Здесь чеканили металлические монеты, изготавливали ордена, медали и значки. Нам разрешили выбрать себе по одному значку в подарок. Наудачу попался красивый, с элементами перегородчатой эмали на латунной основе, значок «Зенита». Храню до сих пор. На колокольне собора били куранты часов, неумолимо бесстрастно отмеряющие поток времени, что заметает следы кровавых расправ прошлых веков. Расправ именно тут, и над замешкавшимися в октябре 17-го представителями элиты города, а значит, и страны: боевыми офицерами-фронтовиками, купечеством, чиновниками, студентами и даже случайными обывателями. И если верить холодящим душу опубликованным дневникам Зинаиды Гиппиус – чьи-то их тела вывозили тогда скормить хищникам городского зоопарка. Ведь неподалёку. Хорошее начало для строительства «общества-счастья», по-хозяйски!
Читать дальше


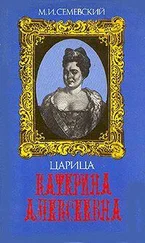
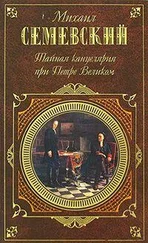


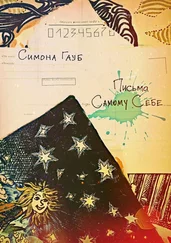
![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том II [Самая полная энциклопедия]](/books/427750/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-ii-samaya-thumb.webp)
![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том I [Самая полная энциклопедия]](/books/427751/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-i-samaya-p-thumb.webp)