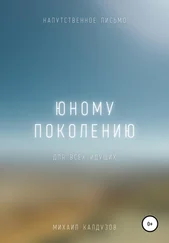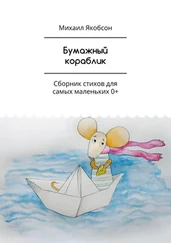Мы жили, а многие и родились, неподалеку от нашей незабвенной школы на Каменноостровском, тогда – Кировском проспекте. Можно сказать – в самом центре Петроградской, и уже с первых классов, взрослея, обживали свою ойкумену, расширяя ареал пеших прогулок по району. Сперва это были «дерзкие» вылазки с друзьями, подчас без спроса у старших: словно географы-первооткрыватели, мы осваивали районные «дали», наполняясь ментальными вибрациями старых улиц, скверов и дворов петроградских домов, растворяясь в этом космосе своей малой родины. Вспоминая те прогулки-походы, замечаю, что главными ориентирами притяжения, определяющими направление очередной «экспедиции», были два манящих рубежа: Большая Невка у Каменноостровского моста с прилегающим Лопухинским садом (тогда Дзержинского) и второй – Петропавловская крепость, Нева у Троицкого моста (в те годы – Кировского). Маршруты в сторону этих конечных рубежей были весьма разнообразными, непрямолинейными, часто необъяснимо затейливыми. Пройдемся, конечно, мысленно по тем улицам Петроградской 60-х годов минувшего века, тропинкам нашего детства и юности.
1.1. Идёт направо – песнь заводит…
К первой цели мы непременно направлялись в сторону Ботанического сада, ведь сюда ходили еще с группой детского сада с середины мая и теплой сентябрьской осенью. Тогда дружно вдоль трамвайных путей брели по улице Петропавловской до одноименного деревянного трехпролётного моста через Карповку. Он располагался по оси улицы. Подобный деревянный мост (Гренадерский) на ряжевых опорах от устья Карповки утыкался в «Выборгский» берег в створе Сампсониевской церкви.
Карповка, конечно, не река, а одна из проток дельты Невы, да и карпов тут отродясь не водилось (версия – корпийоки (фин.), лесная болотистая речушка). Мы вглядывались сверху в толщу её темных, опутанных колышущимися водорослями вод. Гранитной облицовки берегов ещё не было. Плавным мутным шлейфом из выпуска трубы растекались сточные воды, у её оголовка деловито сновали хвостатые пасюки, в них мы бросали специально захваченные с собой камешки. Порой, к нашему восторгу, с грацией Кентервильского привидения выплывало и бледное «изделие № 2». Видимо, о его недетском назначении мы уже тогда были наслышаны, так, что попасть в него камнем было особенно радостно.
Школярами к этому мосту часто добирались и по территории городка больницы имени Эрисмана или 1-го Меда. Раньше больница называлась Петропавловской, и это чудом сохранило название улицы в советское время. Здесь росло много старых дубов и клёнов. Осенью, проходя мимо, мы рассовывали по карманам зелёные с прожилками лаковые желуди. На выходе с территории (или на входе, если с улицы) стоял павильон вахты. Ворота открывались только для служебных автомобилей. Тут же было и больничное справочное.
В Ботанический сад обычно старались проникнуть сквозь раздвинутые прутья его забора со стороны Карповки. Перед этим всегда любовались рядком пришвартованных катеров и лодок у Гренадерских казарм. Стоянка-эллинг была, похоже, ведомственная, многие владельцы, видимо, отставники часами с неугасаемой нежностью ухаживали за своими любимцами. Кто-то был во флотской пилотке, кто-то в поношенном кителе, и всегда в тельняшках.
В Ботаническом разузнали место, где осенью созревал «северный» (может, районированный) виноград, ягоды были небольшие, но достаточно сладкие. Нас, конечно, гоняли, но пару гроздей удавалось с собой прихватить.
Через территорию сада выходили к ЛЭТИ на улице Проф. Попова. Главный корпус этого института в виде средневекового замка производил впечатление. Тут хотелось учиться. У счастливчиков так и случилось. Старшая сестра соседа-одноклассника на последнем курсе ЛЭТИ вышла замуж и переехала к мужу. В её освободившейся 9-метровой комнатушке помещались диван и однотумбовый ученический стол. Мальчишка занял «по наследству» эти хоромы и, разбирая опустевшие ящики стола, обнаружил блокнот, заполненный аккуратным девичьим почерком. Текст оказался предсвадебной «инструкцией», конспектом-подсказкой, похоже, из «Камасутры». Так произошло наше первое, пусть и теоретическое, «крещение» в этих «запретных» вопросах.
На территории института обращали внимание на сохранившуюся часовню или небольшой храм. На двери висела табличка вроде «метрологическая лаборатория». Хорошо, что не склад швабр. В вестибюле построенного позже корпуса 2, теперь «С», уже в студенческие годы разрешались (к праздничным датам) рок-вечера. Более «забойных» исполнителей и аппаратуры я не слышал в те годы ни в Политехе, ни в 1-м ЛМИ. Романтическое знакомство или просто разговор тут из-за громкости были невозможны, но энергетика и драйв сполна заменяли прочие стимуляторы.
Читать дальше


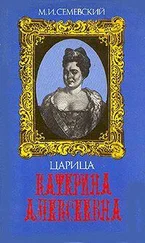
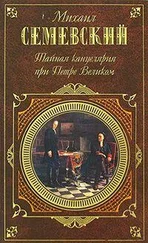


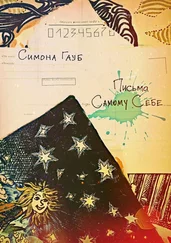
![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том II [Самая полная энциклопедия]](/books/427750/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-ii-samaya-thumb.webp)
![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том I [Самая полная энциклопедия]](/books/427751/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-i-samaya-p-thumb.webp)