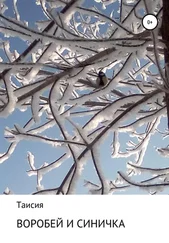И тут мне стало ее жалко. Вот жалко. Жалко, как человека, который не знает, что Земля вокруг Солнца вращается.
– Марта, слушай, – было смешно, но обидеть ее уже не хотелось, – а у тебя коса не до локтя, а до попы, глазищи тоже есть, и ростом ты с моделей. А чего у тебя никого не было?
Она смотрела на меня молча, а я больше не мог задерживать репетицию. И разговор этот меня тоже вымотал, как полчаса растяжки, только мышцы не прогревались, и облегчение не приходило.
Спиной чувствуя на себе взгляд Реды, который уже держал руки, как дирижер оркестра, готовый махнуть звукооператорам, я попытался погладить на прощание Марту по голове, но она отклонила голову.
– Пожалуйста! Встаем на поклоны! Avoir 20 ans! Les Montaigu! Les Capulet! – закричал хореограф со сцены, поворачиваясь к нам в зрительный зал уже раздраженно. Перерыв закончился.
Взвинченная Марта смотрела на меня мокрыми глазами, яростно и жалобно, не пытаясь больше ничего спрашивать.
– Я работаю, – сказал я на выдохе. – Марта, всё, я работаю.
– Tu travailles, – кивнула она почти беззвучно.
– Я тебе дома все скажу, ок?
– Сomme tu veux toi, – она развернулась и пошла наверх к выходу из зала.
– Что это значит? – крикнул я вслед.
Она обернулась, как кошка, через плечо, и первый раз за эти мучительные пятнадцать минут слегка улыбнулась. С еле заметным превосходством.
– Я тебе дома скажу.
Un jour, on fera le même aveu
J'étais seul(e), on sera deux,
Et on s'aimera si fort
De nos âmes de nos corps
Однажды мы признаемся друг другу в одном и том же.
Я был один / Я была одна, нас будет двое,
И мы будем любить друг друга так сильно!
Всей душой, всем телом!
Я вышла из Дворца Конгрессов, как в день его кастинга, и пошла, держа руки в карманах, куда-то. Куда угодно. В центре хорошо бродить, потому что всюду – Париж, и эти бесконечные улочки, скверики с платанами и лестницы ведут тебя дальше и дальше.
Бродить пришлось до темноты. Каждый час у меня пересыхало в горле, я покупала воду, выпивала залпом целую бутылку и снова шла ходить. Эта песня про двадцатилетних звучала и звучала у меня в ушах.
Может, дело в том, что я никогда не видела такого балета и не слышала таких песен, – говорила я себе самой. Может, настоящий классический балет еще похлеще, не зря все эти легенды об ориентациях и стеклах в пуантах обступают этот мир в три слоя облаков.
Но думать о таком было совершенно нестерпимо. Нестерпимо было воображать эти кадры, а они плыли и плыли перед глазами. Меня не так воспитали. Я старообрядец, меня не так воспитали. Его взорвала именно эта фраза, я помнила, но и сейчас никакой другой ответ не приходил мне в голову.
Идти домой не хотелось совсем. Говорить с ним непонятно о чем, или снова ссориться, или ничего не спрашивать и сделать вид, что это был ничего не значащий эпизод, – все это было одинаково плохо. Первый раз за эти два месяца мне не хотелось видеть его. И находиться рядом с ним. Телефон я выключила еще утром, пока смотрела репетицию, а включать и видеть пропущенные звонки тоже не хотелось.
К девяти вечера я все-таки спустилась в метро и долго стояла, пропуская вагоны. Может, никуда не ехать. Так и сидеть тут, до самого последнего поезда. Не хочу ни о чем говорить. Вот бы я была как эти девочки в балете. Как, интересно, они умудряются петь на такой скорости в танце, ведь дыхание должно сбиваться на первом же такте? И как их слышно без микрофонов? Как там все устроено? Почему они так легко сливаются все между собой на сцене, разлетаясь на следующий же счет, откуда они берутся, как их растят, чтобы этот праздник воспринимался ими как работа? Если бы быть такой, можно было бы не стараться ничего говорить.
Перед домом я тоже долго стояла, задрав голову и смотря на окно. Может, простоять до темноты. Он ни за что не проснется, если я приду после отбоя, режим дня и питания у него с этой хореографией как в пионерском лагере, только еще строже. Углеводы! Сахар! Я не пью кофе, оно давление расшатывает! Ах, десять вечера, я же не высплюсь! Мне в пять вставать, мышцы должны быть прогреты как следует к началу работы!
Накручивать себя долго не вышло, потому что Джонатан подошел к окну и приклеился к стеклу. Не открывал форточку, не махал мне выключенным телефоном, не вышел из подъезда и вообще никак не выразил своего настроения. Просто стоял в прямоугольнике света, глядя вниз на меня с третьего этажа вниз через стекло. Когда он не двигался, я не могла долго это терпеть, потому что – говорила, кажется? – сразу возникало ощущение, что он отсутствует. Выключалась трансляция. Нет, я до сих пор не знаю, как это описать. Он был, пока двигался, и этот язык динамики я тогда понимала лучше, чем его слова.
Читать дальше