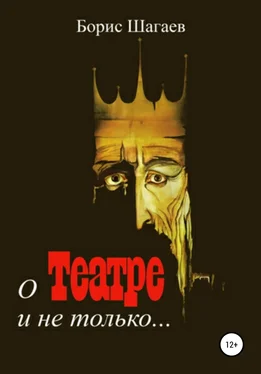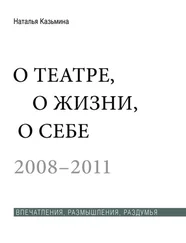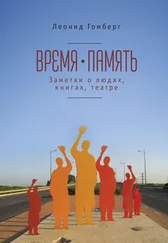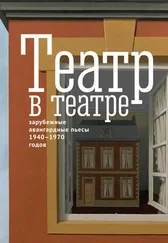В последующем я частенько бывал у Никиты Омолдановича в его доме «на песках». Рядом жил не менее известный Михаил Хонинов, писатель-фронтовик, отважный партизан. С ним тоже говорили о многом. Кстати, когда у Санджиева родился сын, «обмывать» его ходили к Давиду Кугультинову. Там и решено было назвать его именем поэта – Давидом. Потом уехал в Москву. В Москве Никита Омолданович долго жил и там умер, и я лишился, пусть это не покажется нескромным, хорошего друга. Он передал частицу своей богатой души мне, я радовался каждому новому общению с ним, как когда-то его приходу в нашу богом забытую сибирскую хибару. С кульком конфет и пряников.
Художник Очир Кикеев
Заслуженный художник РФ Очир Кикеев в последние годы иронично называл себя «корнем нации». Мною была написана эпиграмма на Кикеева, её даже напечатала одна местная газета:
Говорит он: «Корень нации,
ики-бурульской формации»,
Художник, бражник, сибарит,
«Театру друг», – он говорит.
Прочитав эпиграмму на себя, он позвонил мне. «Какой я бражник, сибарит!? Ты что меня так выставляешь?». Я объяснил ему по поводу бражника и сибарита, и он успокоился. На следующий день в его мастерской эпиграмму и примирение отметили «должным образом». С Кикеевым меня познакомил художник Виктор Цакиров в 1958 году. Поразил выразительный кикеевский нос и замкнутый характер. Это потом, в конце жизни, в хорошем расположении духа он был словоохотлив. Кто только не заходил в его художественную мастерскую – от сантехников и дворников до министров и прочих начальников. И баритон Кикеева постоянно громыхал в просторной подвальной комнате. Он всех подряд привечал, но иногда, когда был сильно занят, мог отказать в аудиенции. Порою в резкой форме. Кто-то обижался, кто-то – нет. Юмор, ирония сквозили в каждом его рассуждении. От него всегда исходил оптимизм, хотя в последнее время все стали замечать: Кикеев погружается в грусть. Что-то не ладилось в его душе, и он искал выход.
Но о своих внутренних томлениях он никому не говорил. Он мог позвонить мне домой в три часа ночи и попроситься на пять минут. Пять минут растягивались на пять часов. Мы говорили. Я пони мал, что его что-то гложет, но он не открывал завесу своей тайны. Мы много говорили о смысле жизни, о республике, о том, что будет после нас. Почти полвека мы были дружны и ни разу не конфликтовали на разрыв. Иногда он представлял меня своим гостям: «БэШа» пришел. Насыпай!». А потом шел треп о вреде алкоголя, о сельском хозяйстве, пользе хорошей закуски, Марке Шагале, Гарри Рокчинском, плохой воде и назойливости тараканов.
Видя его талант, я как-то в разговоре намекнул Кикееву: «Сваргань что-нибудь историческое». Прочитав в его глазах вопрос, добавил: «Ну, вот был Аюка-хан. Пятьдесят лет властвовал, какое ханство сотворил». Через неделю он вдруг сказал мне: «Про Аюку-хана никому не говори. Государственная тайна». И все. И никого не пускал в мастерскую. А через некоторое время заглянул к нему в мастерскую. Дверь была открыта настежь. На большом полотне уже композиционно проглядывались контуры Аюки-хана, Петра I по центру и другие фигуры по сторонам. Я спросил: «А как же «государственная тайна?». Он ответил в том духе, что идея и тема им уже застолблена и никакого «секрета фирмы» нет. Когда в начале 90-х в России пошел тотальный раздрай между творческими союзами, Кикеев создал «Ассоциацию художников Калмыкии». Сколько было энтузиазма в его действиях поначалу, но потом он стал неотвратимо угасать. Художники, не ощутив поддержки, сникли. Помню, когда популярный журнал «Юность» опубликовал картину Кикеева «Счастье», все художники Калмыкии воспряли духом. Оказалось – напрасно. Худфонд распался.
Кстати, о «студебеккере», приносящим беду, мне рассказал он, Очир Кикеев – очевидец этого случая. Это он мальчик, игравший в альчики.
Слово о Константине Сангинове
Костя был самым молодым выпускником калмыцкой студии Ленинградского театрального института. Он ушел в предпоследний день октября 2011-го, на пороге 70 лет…
Считается, что 70 – возраст солидный. Но солидным Костя не был никогда. Ни внешне, ни внутренне. При нашей самой первой встрече я опросил: «Ты после третьего класса в институт поступил?». Он, помнится, обиделся. Уж дюже молодо выглядел. Потом более 50 лет мы с ним дружили. Я вспоминаю его добрые и слегка ироничные глаза. В кино он снимался под именем Хонгр Сангинов. Шариф в фильме « Осада» (1977 г.), Фазылов в « Человек меняет кожу» (1978 г.), « Летучий голландец» (1990 г.), в эпизодах «Лошади под луной» (1979 г.). Проработав 5 лет в Калмыцком драматическом театре, он ушел на телевидение режиссером.
Читать дальше