ции для нас, студентов пятого курса, ты говорил
о сцене из фильма Вендерса “Париж, Техас”, где
герой видит в каком-то странном борделе за стеклом
свою жену — и одновременно видит свое отражение
в этом стекле. Их лица и головы соединены в одно
целое отражением — но разъединены стеклом. Тогда, много лет назад, я с трудом понимала, о чем ты гово-
ришь, описывая эту игру отражений, — всё это каза-
лось мне уж очень запутанным. А ты говорил
о тотальной невозможности счастливой любви и об
иллюзорной природе кинематографа. “Зритель начи-
нает глазами уже не столько смотреть и расшифровы-
вать визуальный код, сколько его ощупывать. Он
привыкает к тому, что его бьют, его щипают с экрана, ему дают лизнуть”.
В статье на смерть Игоря Алейникова ты описал, как увидел на пленке контур его тела после того, как на
ней уже ничего не было. Как будто кино могло удер-
жать человека, сохранить его живым. И как будто речь
шла не о дурацком некрореалистическом фильме, а едва ли не о туринской плащанице.
В интервью “Митиному журналу” ты сказал об
одном из сокуровских кадров: “Мы видим, грубо гово-
ря, входное отверстие смерти на самой пленке”. Мне
очень нравится физиологичность этого образа.
Сокуров не был близким тебе режиссером. Но его
дар показывать смерть в кино тебя притягивал. “Осно-
ва настоящего творчества, а не имитации, — макси-
мально полное проживание того, о чем ты говоришь.
<...> Но коль скоро предметом твоего искусства явля-
ется смерть, ты всякий раз обязан проживать смерть.
А проживая смерть всякий раз, ты в конце концов
перестаешь говорить на языке искусства, потому что, когда ты доходишь до определенного порога, наступает
момент, когда уже не надо снимать кино”.
Ты дошел до этого порога? Почувствовал, что
хочешь сказать то, что на пленке не уместится?
Нашел входное отверстие смерти.
91.
324
4 декабря 2013
Сережа! Не знаю, почему у меня вырвалось наконец
твое имя, я ведь тебя, живого, никогда так не называла.
Ты был моим Иванчиком. Но вот как-то само написа-
лось... Сережа... Ты ведь мой Сережа.
Ты умер, но я о твоей смерти не узнала. Мне
не дали тебя похоронить, попрощаться с тобой, попро-
сить у тебя прощения, — и это навсегда изменило мою
жизнь.
Я смутно помню, что в тот день Леша примчался
с работы непривычно рано. Он казался встревожен-
ным, быстро подходил к телефону, с кем-то говорил, закрывшись на кухне. (“Не обращай внимания, это
по работе”.) Потом сказал, что проведет несколько
дней дома, чтобы поддержать меня перед родами
и не пропустить начало схваток. Я сказала, что я в порядке и прекрасно справлюсь сама, но он настаивал. Больше Леша от меня не отходил, окружив кольцом заботы, сквозь которое не мог
прорваться никто. Мне вдруг все разом перестали
звонить, хотя до этого момента телефон не замолкал: все хотели знать, ну когда же, когда.
Однажды я говорила с Любой (я сама ей позвони-
ла), она звучала глухо и казалась совсем чужой.
— Эй, маманя, ты что? — бодро спрашивала я.
Она отвечала:
— Я ничего, я в порядке. Удачи, пока.
Моя мама тоже звучала так, как будто вот-вот
готова заплакать, но я всё списала на эмоции по
поводу моих предстоящих родов. Да, происходило
что-то странное, но и роды — штука странная, разве нет?
325
Чувствовала ли я что-нибудь? Честно? Не знаю.
А потом мы с тобой встретились. В момент рож-
дения Ивана. Я знаю, это звучит глупо. Я, как и ты, ненавидела доморощенную мистику и все эти истории
про длинные коридоры, в конце которых виден свет.
Однажды ты написал: “К мистике всегда склоняется
тот, кто лишен настоящей веры”. Так оно и есть.
Но в ту ночь я тебя видела.
В сущности, сказалось действие наркотиков. Роды
пошли тяжело, и мой грустный доктор принял реше-
ние делать кесарево сечение. Мне вводили в вену нар-
коз. Я сердилась, что мне по-прежнему больно.
Возмущенно сказала:
— Ничего ваше лекарство не действу-у-е-е-ет. —
И провалилась в сон.
Я увидела тот самый коридор, многократно
описанный в книгах про “жизнь после смерти”. Мне
даже неловко об этом писать. Но это не был коридор, залитый светом. Он был страшный, грязный, в пятнах
крови — точь-в-точь смертный коридор Лубянки из
ленфильмовских перестроечных картин. Входное
отверстие смерти. Находиться там было больно, а меня
затягивало всё глубже и глубже, как в центрифугу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

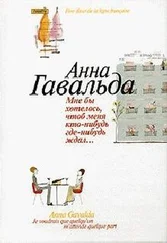




![Карина Добротворская - Мужчина апреля [litres]](/books/432757/karina-dobrotvorskaya-muzhchina-aprelya-litres-thumb.webp)





