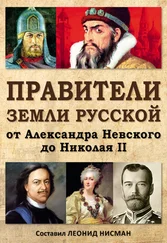Он доверяет нам истории из детства и юности сверстников ближних и дальних, сообщает о людях, с которым его сводила судьба, рассказывает о страшных испытаниях, выпавших на долю страны и семьи: взрыве на Волге парохода с детьми прямо на глазах у родителей, гибели кузин при эвакуации и старшего брата уже после войны – молодого человека, увлекавшегося спортом, чтобы противостоять клише о «чуждых физкультуре и физическим нагрузкам евреях». Нисман дарит возможность снова встретиться или познакомиться с героем повести Льва Кассиля «Ранний восход» – юным и безвременно ушедшим художником Колей Дмитриевым, открыть для себя одесского музыканта Петра Розенкера и, добавляя штрихи к биографии этого бэндлидера, возвращает аудитории правильное написание полузабытого имени, бытующего в советском джазоведении как Розенкерн. В охотку, без устали рассказывает Леонид Нафтульевич о друзьях-актёрах – любимцах публики, чьи фамилии по-прежнему на слуху, наравне с теми, с кем зрители сегодня знакомы меньше.
И мы понимаем, что вся наша жизнь не столько «игра» или «глупая шутка», она «встроена» в другие жизни, и, как виньетка, обрамлена ими. Очередная книга Нисмана – тоже виньетка. В ней профессору Нисману дороги и современники, и представители ушедших эпох, которых можно было застать условно: Лу Андреас-Саломе дожила до 1937 года, Шолом Секунда до 1974-го… Кстати, сам Набатов родился в Александрии, где и Секунда появился на свет, причём также в еврейской семье, разве что на два года позже будущего бродвейского композитора.
По сути, все мы – современники друг друга. Родившаяся в 1916 году англо-американская актриса Оливия де Хэвилленд, лауреат двух премий «Оскар» за лучшую женскую роль, кавалер ордена Почётного легиона, закончила свой земной путь в 2020 году. А ведь ещё Гленн Миллер, знаменитый американский джазмен, погибший в 1944 году, называл её своей любимой актрисой! Вспомнив о столь значимых фактах, я в очередной раз поймал себя на достаточно простой мысли, точнее – на очередной констатации: расстояния невелики, всё сосуществует одновременно. То, что кажется «прошлым» – на самом деле находится совсем рядом на правах «параллельного пространства». Можно ли в этой связи вообще говорить о прошлом? Речь идёт, конечно, о зонах родства. По гамбургскому счёту и, опять же, по Соловьёву, задавшемуся, между прочим, непраздным вопросом, как может «создавать миры в слове» человек, которому не по плечу «ладно разжечь костёр, перевалить через Гималаи», долгие месяцы быть одному на один с природой.
Цель писать критическую статью я перед собой не ставил, отмечу лишь, что Нисману подвластно многое. Трудно удержаться в этой связи от спекуляции на предмет совпадений и случайностей. По адресу на улице Вахтангова, где Нисман обитал много лет, в доме раньше принадлежавшем Ф. И. Шаляпину, получил прописку один из факультетов Щукинского театрального института. Леонид Нисман прибыл в Западный Берлин 3 октября 1989 года. В тот же день, но в следующем году две части Германии официально объединились. Падение стены и вселение «Щуки» в «шаляпинский дом» произошли, разумеется, не благодаря Нисману, но вот в способности идти на риск профессору не откажешь. Как уже отмечалось выше, очевидец из меня относительный: по объективным причинам не похвастаться мне «дружбой первого дня», и в горы я Нисмана не тянул, и одного его не бросал, однако думаю, что предъявить нашему герою претензии в неумелом разжигании костров или скалолазании нам едва ли удастся. По духу и степени родства Леонид Нисман из племени олимпийских факельщиков, хранителей огня и покорителей опасных вершин. Иначе не стал бы он ни крупным учёным, ни изобретателем, ни отказником. Суворовский переход через Альпы или хождение в Каноссу не требовались. Хватило того, чтобы ребёнком во время войны, в пору наступления фашистского верхмахта, вместе с матерью-инвалидом пройти трудный и полный лишений путь пешком из населенного пункта А в пункт Б, из одного Н-ска в другой по просёлочным дорогам и бездорожью. Можно только догадываться, чего стоил один этот путь.
А что до словесных миров, лучше всего, на мой взгляд, Нисману удаются ли́мерики – переводные и собственного производства, жанр редкий, по-настоящему знакомый лишь искушённому литератору. Неспроста Леонид Нафтульевич – будучи «воспитанником Маршака» (в юные годы он посещал кружок под руководством знаменитого писателя), а также человеком отважным, в котором талант и опыт серьёзного учёного, исследователя прекрасно уживаются с даром и навыками тамады, шталмейстера и церемонимейстера оказался причастным к «фракции малых и лёгких жанров» Содружества русскоязычных литераторов Германии СЛоГ. Фракция эта, специализирующаяся, в частности, на комических репризах, интермедиях, сатирических и иронических миниатюрах, долгие годы была едва ли не самой крупной и мощной, представленной такими аксакалами и профессионалами, как знаменитый комедиограф Борис Рацер, конферансье, автор песен, ревю и юморесок Александр Мерлин, сценарист, фельетонист, лауреат всесоюзного конкурса драматургов эстрады, основатель Содружества и его первый председатель Рудольф Ерёменко, второй председатель СЛоГа и мастер афористики Борис Замятин, один из авторов журнала «Крокодил» и клуба «ДС» «Литературной газеты» Исай Шпицер, наконец, Наталья Аринштейн и Александр Райзер.
Читать дальше
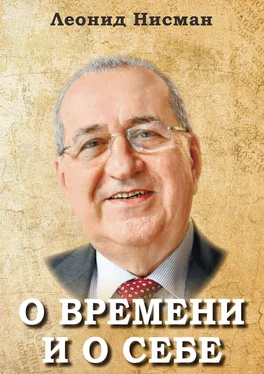


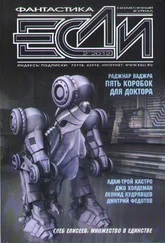


![Леонид Зайцев - Игры времени. Дилогия [СИ]](/books/391292/leonid-zajcev-igry-vremeni-dilogiya-si-thumb.webp)