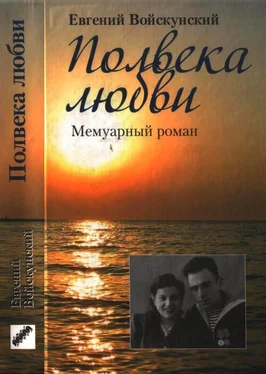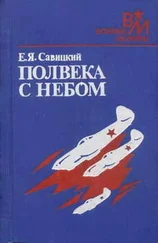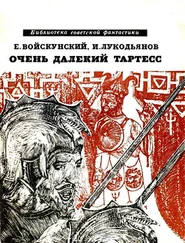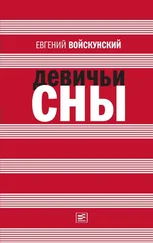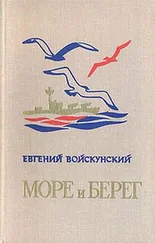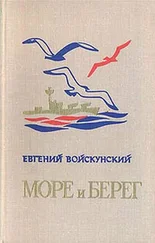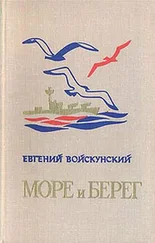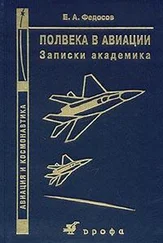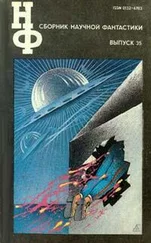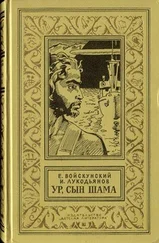Новеллы Дмитрия Биленкина осуществляли своего рода службу времени, экстраполируя в будущее лучшие нравственные качества ныне живущих людей. Герои его новелл — работящие, мыслящие люди. Характерные для них высказывания: «Нормальное состояние разума — труд мысли»; «Работа, что ни говори, все-таки лучшее из лекарств»; «Всякая жизнь проходит, важно ее наполнение».
Ко времени первого малеевского семинара Биленкину было под пятьдесят. Он очень посолиднел: отрастил усы и бороду, курил трубку. Так же, как и я, Дима твердо придерживался принципа реалистической фантастики. Мы не учили семинаристов, как надо писать, — это от Бога. Но научить, как не надо писать, можно. Достоверность! Даже самое необычайное должно выглядеть правдоподобным. Мы вытаскивали из рукописей недописанные фигуры персонажей, решительно перечеркивали многословие и красивости…
Можно ли было себе представить, что Дмитрию Биленкину оставалось всего пять лет жизни?
«Малеевки» были своего рода ежегодным смотром молодых сил фантастики. Съезжались со всей страны начинающие авторы, в большинстве своем люди талантливые. Некоторые из них уже опубликовали рассказы в сборниках фантастики, выходивших в «Молодой гвардии» и в «Знании».
Мне довелось составлять три альманаха «НФ» в издательстве «Знание», и в каждом из них присутствуют «малеевцы». В альманахе № 19 (1978) напечатана повесть Виталия Бабенко «Переписка». В № 23 (1980) — рассказы Михаила Веллера, Александра Силецкого и Евгения Филимонова. В № 35 (1991) — повесть Владимира Покровского «Танцы мужчин». Уже шла перестройка, я написал в предисловии к этому альманаху: «К счастью, наступило время обновления, нравственного очищения общества от тяжелых завалов тоталитаризма. Вот и залежавшаяся в ящике стола повесть Покровского „Танцы мужчин“ выходит к читателю». В этом же номере альманаха опубликованы рассказы Эдуарда Геворкяна, Любови и Евгения Лукиных, а также молодых авторов из следующего поколения «малеевцев» — Андрея Саломатова и Виктора Пелевина. Все эти имена теперь на слуху, и я рад тому, что способствовал их старту.
И конечно, моя большая радость — книги, которые дарят бывшие семинаристы. У меня целая полка книг «малеевцев» — москвичей Бабенко, Покровского, Руденко, Геворкяна, Саломатова, петербуржцев Рыбакова, Лазарчука, Столярова, красноярца Успенского, волгоградца Лукина, киевлянина Штерна.
Двум Борисам — Руденко и Штерну я дал рекомендации для вступления в Союз писателей. В 87-м Боря Штерн прислал из Киева свою первую книгу «Чья планета?» с трогательной надписью: «…В этих рассказах много Вашего участия, Вашей доброй души. Спасибо Вам за поддержку в трудные времена, которые, надеюсь, уже позади». Верно, те времена позади, но и нынешние не назовешь легкими. У Штерна вышли еще две или три книги, и он написал бы еще много, он был редкостно талантлив. Но в 1993-м Штерн умер внезапно, за работой, упав головой на клавиатуру компьютера.
Из моего дневника:
10 мая 1982
…Вчера, 9-го, в День Победы к нам приехали Тарковские. Лидка звонила Татьяне в Переделкино, и вот они поймали такси и приехали. Я был очень рад: люблю Арсения Тарковского, милейшего, детски-простодушного, обожающего смешные истории и марки. И стихи его люблю. Лидка сделала лобио, испекла хачапури, и Арсений, которому опротивел домтворческий однообразный харч, с удовольствием ел. Выпили коньячку. Алик и Натэлла тоже были. Татьяна сейчас редактирует куперовского «Зверобоя». Я вспомнил, как смешно и зло писал о Купере Марк Твен, и прочел им вслух эту статью из XI тома. Мы покатывались со смеху. Потом Арсений смотрел мою коллекцию марок, я ему много подарил, он был страшно доволен. Вечером Алька поймал машину, и мы их отправили в Переделкино. Приятные люди, приятный вечер.
30 ноября
…Вечером вчера был в ПДЛ творческий вечер нашего милого Арсения Александровича Тарковского. Хороший вечер. Читали стихи — свои и Арсения — Алик Ревич, Годик Корин, Евтушенко, Кома Иванов, пел две новых песни Окуджава (одна из них — о дураках, которые любят учить, и об умных, которых скоро «всех выловят», и о необходимости «усреднения»). Читал стихи Арсения Михаил Козаков. Великолепно сыграл А. Гаврилов опус позднего Скрябина и опус раннего Прокофьева, и от его могучих аккордов сотрясался и ездил взад-вперед «Стеинвей». Потом Гаврилов сделал Арсению поистине царский подарок — сыграл крохотную (но драгоценную) вещичку Моцарта, чудную каденцию, недавно найденную в Будапеште у потомка аристократической семьи. Неизвестный Моцарт! Гаврилов сказал, что это был, скорее всего, подарок женщине. Ах, как дивно прозвучал этот подарок!
Читать дальше