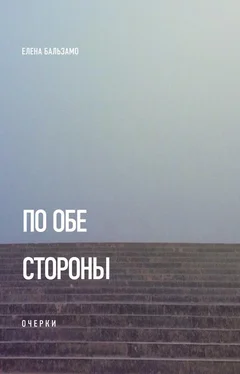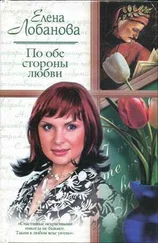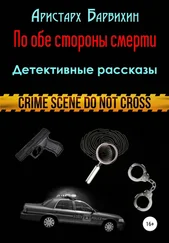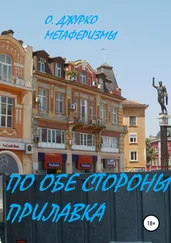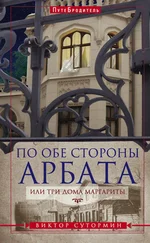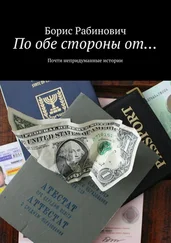– И ты ничего не знала?! И никто ничего не говорил?
– Никто. Все смутно догадывались, что лучше было вопросов не задавать.
«Почему ты мне об этом не рассказывала?» – «А ты не спрашивала». В этом-то вся загвоздка: как подступиться к близкому человеку с расспросами о прошлом? Каким образом за это взяться? Как выбрать подходящий момент? Очевидно, что такой момент не может наступить до тех пор, пока мы продолжаем видеть в близких не отдельных личностей, наделенных особой судьбой, а своего рода продолжение нашего «я». Со временем, однако, образуется дистанция, мы перестаем соотносить их только с собой, и тесные узы, изначально связывавшие нас, постепенно ослабевают. Но далеко не всегда это отдаление сопровождается пробуждением любопытства: часто оно приходится на лихорадочные годы, когда, поглощенные устройством собственной жизни, мы слишком заняты собой, чтобы интересоваться прошлым родных, казалось бы, досконально известным. Став менее необходимыми, близкие люди не становятся при этом более интересными. А в тот день, когда мы наконец ощущаем потребность расспросить их, оказывается, что многих уже нет в живых.
Парадоксальным образом, познание прошлого самым, на первый взгляд, очевидным способом: расспрашивая свидетелей, которые под рукой, на деле оказывается самым проблематичным. А собирание по крохам в своей и чужой памяти давно услышанного неизменно сопровождается сожалением по поводу упущенных возможностей расспросить, узнать… Моя бабушка по материнской линии, та, что шла пешком из Кирова в Москву, дожила до 102 лет и до самого конца, уже совсем слепая, сохраняла ясность ума и твердость памяти. «Представляешь, – говорила она мне, – я такая старая, что помню извозчиков. Когда мы приехали в Москву в 30-м году, на вокзале мы взяли извозчика…» Почему я никогда ее ни о чем не расспрашивала?
Но с другой стороны: как за это взяться, с чего начать? Как выбрать подходящий момент? Чистя картошку для супа? Стоя в очереди за селедкой? Или за ужином, когда вся семья в сборе? Спросить у одной: «Скажи-ка, бабушка, зачем ты вступила в партию?» Или поинтересоваться у другой: «А тебя избивали на допросах?» Немыслимо. Взрослые имели право на умолчание о прошлом, на секреты, на собственную, лишь им одним известную жизнь, и было что-то кощунственное в самой мысли о том, чтобы подступиться к ним с расспросами. В результате потребовалось немало времени, прежде чем сложились условия для того, чтобы попытаться воскресить хотя бы частицу этого одновременно доступного и запретного прошлого. Одним из этих условий стала временная дистанция. Другим – пространственное удаление. Только прожив какое-то время на Западе, я испытала потребность разобраться в том, что произошло. Третьим условием стала смена языка: эта история категорически отказывалась быть изложенной по-русски.
* * *
«Вопросов лучше не задавать». Реакция на мой взгляд вполне естественная: мне тоже потребовалось время, чтобы научиться расспрашивать; я тоже выросла в доме, по соседству с которым высилось загадочное здание, окруженное высоким забором, назначения которого никто не знал. Там не было никакой вывески, взрослые о нем никогда не говорили. Центр телефонного прослушивания? Институт космических исследований? Какая-нибудь секретная лаборатория? В советские времена Москва кишела этими зданиями-призраками за глухими заборами без вывесок; люди на всякий случай обходили их стороной, как обходили Лубянку, иностранные посольства – от греха подальше, чем черт не шутит… «Мы живем, под собою не чуя страны» – строки Мандельштама относятся к другой эпохе, но ощущение неуютности и изгойства в собственном городе, в собственной стране было непреходящим. Иногда завеса тайны чуть-чуть приподнималась: в один прекрасный день выяснялось, что в неказистом здании в центре Москвы, к которому подъезжали черные волги с затемненными стеклами, располагался шикарный ресторан, где кормили иностранцев, приезжавших в Советский Союз по приглашению ЦК, и куда простым смертным, конечно, не было доступа. А за еще какой-нибудь высокой стеной обреталась номенклатурная лечебница – знакомой знакомых удалось туда попасть, и она рассказывала такое… Но чаще всего загадка оставалась загадкой, и белые пятна на плане Москвы, словно пятна проказы, продолжали уродовать городской пейзаж. Что касается таинственного здания неподалеку от нашего дома, оно существует до сих пор – в отличие от самого дома.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу