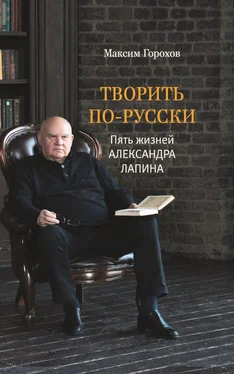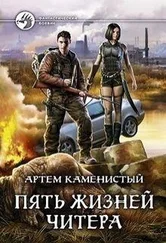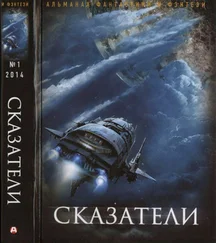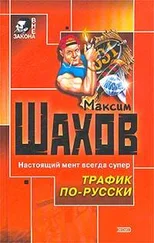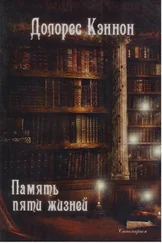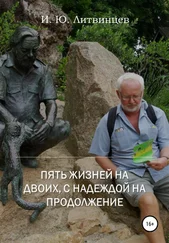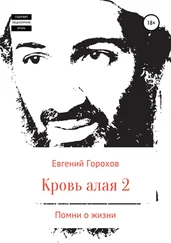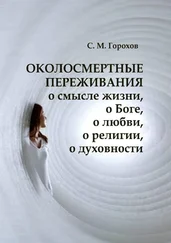Что-то из этого можно было продать в райцентре. То же масло отец возил на рынок в Прохладную. А однажды взял сотню яиц – и подозрительно быстро вернулся с деньгами. Оказывается, приценился к «конкурентам» и просто сбросил пару копеек.
Вообще, сегодня писатель Лапин делает вывод: народ тогда был другого качества. Люди тех поколений имели несравнимо большие знания, навыки и способность к выживанию, чем нынешние взрослые, не говоря уже о подростках. Практически что угодно умели делать своими руками. Больше-то надежды ни на кого не было. Может, поэтому Россия и выстояла.
Когда сын как-то бросил родителям в запале: «Вы без города не проживете!» – ему спокойно возразили: «Сынок, ты чего? Мы все можем сами». Так и было.
Надо носки связать – остригут барана, из шерсти совьют нитку. Возьмут прялку, веретено – готово. Надевай! Однажды Александр такие носки сжег: бросил на печку сушить, да не рассчитал. Отлупила его тогда мать как следует. Долго обижался. Но теперь понимает, как нелегко все доставалось.
На машинке Мария тоже шила прекрасно. Когда лет в 17 Александр с другом Владимиром Шаталовым решили справить вельветовый костюм – один на двоих – никакое ателье им не понадобилось.
Отец тоже был рукастый: мог починить что угодно. А когда сын начал донимать его просьбой купить санки, отправился на кузню. И тут же с мужиками они загнули трубу, приварили полозья. Просверлили и прикрутили деревянные планки. Получились сани – хоть собак запрягай. Кататься можно было впятером. Тогда как на фабричные алюминиевые – хлипенькие и ненадежные – помещалось от силы двое пацанов.
Хлеб тоже пекли самостоятельно. Собственного места для этого в бараке ни у кого не было. Но собрались общиной – построили печку прямо во дворе. Каждая семья пользовалась ею в свой день. Заготавливали дрова, уголь. Замешивали тесто. И когда оно подходило – выпекали. Потом такой хлеб смазывали маслом, убирали в укромное место и доставали к столу по одной краюхе.
В ту же большую печку Лапины засовывали младшего сына, когда болел. Протопят ее – положат ребенка в корыто. И отправляют пропотеть как следует. Может, с тех пор Александр Алексеевич и не любит замкнутые пространства. Потому что помнит то ощущение ужаса и жара. Однако способ этот помогал: после такой процедуры он действительно выздоравливал.
В общем, обо всем сельские жители заботились сами. Работали не покладая рук. И послевоенная жизнь благодаря их усилиям потихоньку налаживалась.
Очередной крах, по воспоминаниям родителей Лапина, настиг селян после прихода к власти Хрущева. Тогда наверху рассудили: колхозники работают на себя в подсобных хозяйствах и недостаточно усердствуют на коллективных полях. Надо у них все отнять. В итоге забрали с личных подворий коров. А в Янтарном их было штук сто. Всех согнали на ферму. Потом отправили на мясокомбинат. Увели кормилицу и со двора Лапиных. Пожалели только многодетных Ермаковых, у которых в семье было 18 ребятишек.
Более того, с каждого плодового дерева стали брать налог. И люди вырубали яблони и груши, чтобы его не платить. Остались на подворьях только куры да свиньи. Но их тоже надо было чем-то кормить. С того момента все стали воровать зерно, и не только его. Начальство же смотрело сквозь пальцы. Главное – что параллельно с личным заботились и о государственном.
Совхоз «Прималкинский» к тому времени представлял собой многопрофильное хозяйство: помимо племенных свиней, которых выращивали для всего соцлагеря (приезжали любоваться ими и венгры, и чехи), здесь были свои виноградники, фруктовые сады, коровник. Имелась конюшня с множеством лошадей. (Казаки любили разъезжать на бричках. И время от времени устраивали соревнования: верхом на полном скаку лихо рубили шашками лозу.) А местные школьники даже разводили шелковичных червей. Вдоль дороги росли тутовые деревья. И их листьями кормили личинок, доставленных из Китая. Коконы потом сдавали на фабрику.
Но вся эта пасторальная картинка, как водится в России, существовала недолго.
– Партия и правительство объявили специализацию, – рассказывает Александр Лапин. – Мол, на кой вам эти арбузы и дыни? Зачем виноград? Все вырубить! Вслед за подсобным хозяйством. Пусть останутся только профильные свиньи и корма. Хотя Кавказ – благодатный край. Но в очередной раз все испортили.
А сельским жителям нужно было со всем этим смиряться. И работать, работать, работать… По словам Александра Алексеевича, мать его любила. Но трудиться заставляла день и ночь. Потому что и сама не покладала рук до старости.
Читать дальше