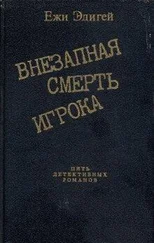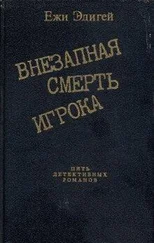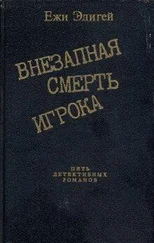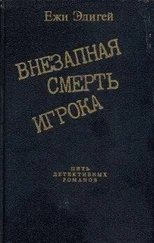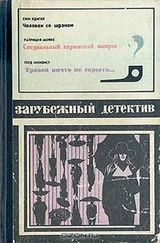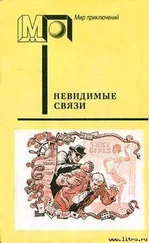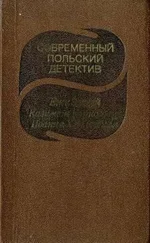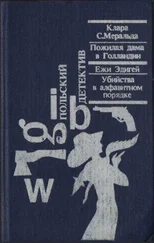Надо заметить, что и империализация не проходила бесследно для казахов. Многие из них налаживали торговые связи, старались взаимодействовать в вопросах земледелия и поддерживать отношения на бытовом уровне и с русскими крестьянами, и с казаками. Часто многие имущие и неимущие правовую сторону своих нужд решали в судебных инстанциях приграничных районов. Волею судьбы складывались достаточно разумные отношения между казахами и русскими, основанные на взаимопонимании в самых различных сферах жизни.
Главный водораздел между казахами и русскими проходил по вопросу отчуждения земли, политических прав, возможности строить собственную общественную жизнь в рамках своей культуры, своего менталитета, своей государственности, что свойственно казахам так же, как и русским. Не один документ свидетельствует о насильственном оказачивании крестьянина, о насилии по отношению к нему при освоении далеких окраин империи. И уже через 20–30 лет, как писал исследователь Ф. И. Усов, особым шиком казаков считалось знание казахского языка и ношение казахской одежды.
Выдающееся по своей значимости всенародное движение под руководством Кенесары Касымова имело своим стержнем идеологические и социальные постулаты, которые твердо и неукоснительно соблюдались в борьбе с режимом. Этот несгибаемый стержень был заложен в ханской власти — власти, которая должна была повелевать всей жизнью народа. Легитимность власти торе-чингизидов не подвергалась никакому сомнению. И последней опорой этого являлась деятельность деда Кенесары Касымова — хана Абылая. Не получивший и малой толики власти в раннем детстве, хан Абылай только в силу своих способностей и огромного авторитета создал себя как, может быть, самого значительного политического деятеля XVIII века в Казахстане. На протяжении полувека (а созданная им своеобразная казахская государственность просуществовала до начала XIX столетия) хан Абылай неудержимо укреплял не только свою государственность, но и политическую власть своего дома, или, как принято выражаться, своей фамилии. Полная политическая власть хана Абылая вызывала удивление не только виднейших вельмож империи, таких, как Г. А. Потемкин и И. И. Неплюев, но даже и его собственных потомков, таких, как Ч.Ч. Валиханов, который писал, что он вобрал в себя древнюю традицию смертной казни кочевника, освященную на протяжении столетий незыблемыми постулатами древности.
Такая полная власть, которая могла единолично решать вопросы жизней десятков тысяч людей, со всеми их бытовыми и духовными запросами, должна была концентрироваться в руках руководителя движения Кенесары Касымова. На это у него были и права, и способности. Но существовал еще один важный объективный фактор — перемалывание этой власти чиновно-бюрократическим режимом. И постепенно этот фактор направлял действия Кенесары в такой сложной, многоуровневой дипломатической, военной и политической жизни.
Для понимания мотивов и действий нашего героя необходим некоторый исторический экскурс.
К началу XVIII века в Центральной Азии сложилась непростая ситуация. В этот регион в первой четверти XVIII века переместился центр столкновения политических интересов и противоречий многих государств. Россия, ставшая к тому времени одной из могущественнейших стран мира, большое внимание уделяла взаимоотношениям государств Центрально-Азиатского региона. Продвижение царизма в сторону глубинных районов Южной Сибири и в степи Казахстана становилось более целенаправленным и стало носить постоянный характер. Это обусловливалось несколькими причинами. В первую очередь необходимо было погасить национально-освободительное движение башкир, поэтому появилась нужда закрепиться в Южном Приуралье и в Евразийских степях. Кроме того, смутные сведения о богатых золотом краях сопровождали военно-казачью колонизацию в глубь Прииртышья. Постепенное привлечение казачества к колониальной службе государю привело его к полной зависимости от царского правительства и к тому, что казачество стало выполнять роль первой линии освоения новых земель Российской империи.
Проникновение России в южные районы Центральной Азии вызвало противодействие со стороны Цинской империи, всевластие которой на Востоке было известно. Несмотря на то что Цины пытались проводить широкую антиджунгарскую политику в регионе и после поражения последних, джунгары уже не представляли для Китая сильного и опасного противника. Имперская политика Цинов не располагала средствами для полного своего господства в регионе. Цинские власти всячески противодействовали русско-джунгарскому сближению. Направляя к волжским калмыкам-политикам свои посольства, цинские власти пособничали джунгарской агрессии против Казахстана и других владений в Туркестанском крае. Политические поползновения Цинов не входили в планы России, и потому уже в 1716 и 1719 годах Петр I готов был принять джунгар в свое подданство.
Читать дальше
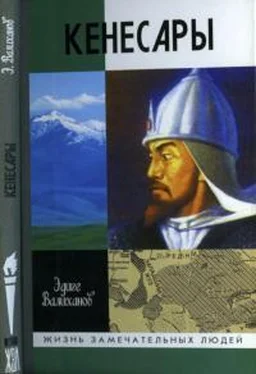
![Т. Кристин - Дом тихой смерти [Кристин Т. В. Дом тихой смерти; Рой Я. Черный конь убивает по ночам; Эдигей Е. Отель «Минерва-палас»]](/books/104347/t-kristin-dom-tihoj-smerti-kristin-t-v-dom-tihoj-smerti-roj-ya-chernyj-kon-ubivaet-p-thumb.webp)