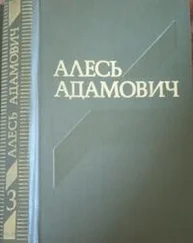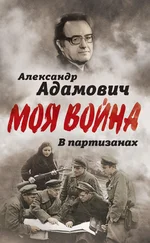«Материк» оседает, а за счет этого где-то вырастают другие «острова» и «материки», другие социальные слои и формы. Растут города, вырастают новые социальные группы населения, изменяется социальная и духовная атмосфера самой деревенской жизни.
Автор «Комаровской хроники» понимает и закономерность и необходимость такого процесса: М. Горецкий, возможно, как никто иной, радуется, что в деревне белорусской появилась и растет своя интеллигенция, что жизнь крестьянина и особенно женщины становится не такой каторжной, беспросветной.
Но глобальные процессы, даже самые желанные и необходимые, иногда мало считаются с личностью, с человеческой судьбой и жизнью. Для отдельного человека движение даже в том потоке, который можно назвать «восходящим», даже такое движение — это одновременно путь утрат и спуска. К небытию движение. Потому что то самое время, которое работает на общий прогресс, забирает (как бы даже между прочим) у человека год за годом, и наконец — саму жизнь отбирает. Чувство такого «двойного» движения жизни в произведениях А. П. Чехова, например, создает очень сложное щемящее настроение. Пронизывает оно, подобное настроение, и «Комаровскую хронику». Движение жизни вперед, но на том пути столько всего остается и такое все дорогое сердцу рассказчика: стареет и умирает вечная работница, когда-то такая молодая и такая голосистая, мать Кузьмы, Лаврика, умирает от голода чудесная Устинька, сам Кузьма после белопольской тюрьмы снова оказывается в далеких от Комаровки местах, а Лаврика, несправедливо обвинив, собираются выслать за границу... И вроде бы случайность, но внутренне связанная со всеми теми утратами — дикая, бессмысленная гибель двадцатилетней, такой энергичной, такой богатой молодой совестливостью и надеждами Маринки. Много в «Комаровской хронике» смертей — как и рождений, свадеб, перемен в самой природе. Мы уже об этом говорили.
Но смерть Маринки — это уже катастрофа, а не привычное: «бог дал — бог взял». Потому что с ней погибает больше, чем жизнь одного из комаровцев. Погибает целый мир высоких стремлений, надежд на новую, разумную и богатую смыслом и делами жизнь. Ценность жизни выросла, растет, а потому и смерть уже воспринимается, переживается иначе. И подается «крупным планом»: со всеми подробностями переживаний многих людей.
«Целое лето не получал Кузьма писем от родных. Тревожился, думал: видимо, что-то у них там случилось недоброе... Около 20 октября пришел Кузьма с занятий усталый, невеселый. Сел в старое мягкое кресло, которое осталось в квартире от каких-то давних хозяев, в углу возле печки и двери, где никогда не сидел, и задумался покорно и мучительно, как никогда: тяжело жить... Почтальон. Какой-то большой пакет. Из Москвы, рука Лаврика на конверте. В пакете письма нет, а только фотографии с кем-то в гробу... И Лаврик стоит с наклоненной головой над гробом... Группка молодежи... «Кто же это в гробу?» — подумал Кузьма. Не мог узнать, но испугался... Стал ходить по комнате. Заговорил с Милой. Подошел к окну, присмотрелся, заметил на лице у покойницы следы смерти от мук и горя, и еще что-то родное, и вдруг высказал ужасную мысль: «Уж не Маринка ли это?» — и не хотелось ему верить: как же это возможно?., поехали в Москву... все было хорошо... Мила успокаивала. А он уже узнавал и узнавал, не хотел признаваться: «Это она, она, дорогая сестричка...» И огромным горем для него было узнать об этом всем 24 октября».
После присланной, без единого слова, фотографии Лаврик наконец решился написать и письмо: «Несчастье огромное, как туча темная, грозовая, обступило наш дом. Ударили адские молнии. Не стало единственной сестрички нашей, кукушки лесной, Марины. Во вторник, 19 сентября, в 12 часов 3 минуты, отлетел дух Маринкин, чтобы перестать быть Мариной и слиться с великой вечной энергией Великого Разума».
Той Маринки, самой любимой в комаровской хате, которая посылала Кузьме «кра-а-а-сненькие поклончики», которая по-молодому грустила в дневнике своем, потому что переполнена была ожиданием чего-то большего, что должно прийти, которая с таким максимализмом молодым бросалась в бой против несправедливости — и дома, и в училище, которая с такой надеждой ехала учиться в далекую Москву. Такая живая, такая энергичная, когда кому-то надо помочь, кого-то защитить — и уже нет ее, Маринки...
Как бы с желанием хоть так продлить, задержать на этой земле дорогую жизнь Маринки, пусть хоть теперь взять на себя те ее ужасные страдания, о которых узнал лишь из письма да на фотографии разглядел, М. Горецкий (Кузьма) восстанавливает перед глазами всю картину трагедии. По словам, по памяти тех, кто видел Маринку в последние дни и минуты ее жизни. А за этим и над этим — собственное зрение, видение, из-за их плеч, запоздалое, однако тем более острое, мучительное. Старается хоть сейчас взять на себя ее муки. И потому жестокая точность (документальность!), с которой описывается длительная агония молодой девушки, не выглядит в «Хронике» ни жестокостью, ни натурализмом. Страницы, на которых будто бы «документируется» уже сама смерть (с характерной для М. Горецкого точностью) — удивительно человечные. Максимальное, какое только возможно, сопереживание рассказчика (самого М. Горецкого), который будто мстит себе за то прежнее незнание и теперь по минутам и секундам восстанавливает происшедшее и тем заставляет себя пережить всю трагедию Маринки — это делает самые жестокие страницы М. Горецкого самыми человечными.
Читать дальше
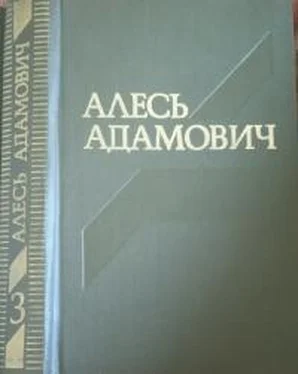
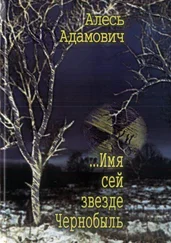
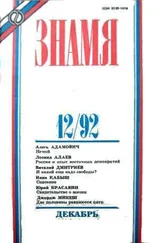
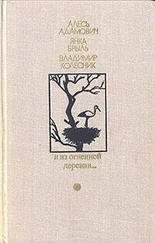

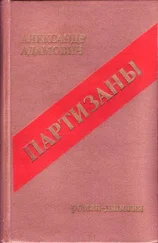
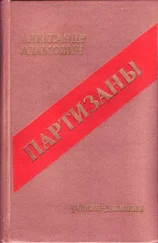

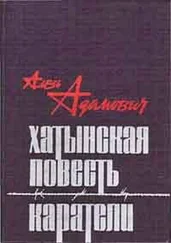
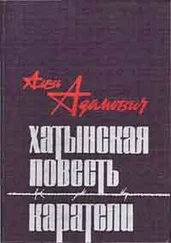
![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)