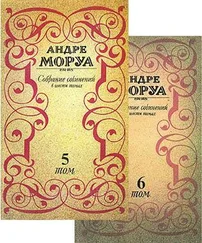Любил ли он ее? Позднее он это отрицал. Она была не «его типа». Как бы ни было изящно её тело, оно казалось слишком худым для того, чтобы быть истинно прекрасным, и у неё не было ни глаз газели, ни «боязливости антилопы», ни грации, которые Байрон искал с детства. Но она обладала бесконечной живостью, и если хоть немножко принять в расчет гордость, — сделаться своим человеком в Мельбурн-Хаузе было как-никак лестно для молодого человека, у которого две недели назад было в Лондоне всего несколько друзей. Разумеется, был соблазн отдаться чувству, которое в ней казалось так сильно. Даллас однажды застал у Байрона пажа, разодетого в шелка и кружева, и Байрон казался таким сосредоточенным, словно все его мысли и время всецело посвящены тому, чтобы читать письма леди Каролины и отвечать на них. Добряк Даллас счел даже своим долгом предостеречь его от этого общества, столь опасного для добродетели, и от этой женщины, про которую все говорили, что она сумасшедшая. Но Байрон был достаточно настороже.
Аристократическое общество, в которое он с таким успехом вступал, общество, до сих пор сохранившее нравы XVIII века, было не сентиментальным, а только чувственным. Оно импонировало не тому Байрону, который жил где-то глубоко в его душе, а Байрону саркастическому, разочарованному, сложившемуся под влиянием несчастных обстоятельств. В прозе он предпочитал тон Мадам де Мертейль, старой леди Мельбурн, романтическому стилю её невестки. Леди Каролина его часто раздражала, леди Мельбурн чуть-чуть пугала и очаровывала той непринужденностью, которая ему была доступна только в редкие минуты. В его обращении в любовный скептицизм она играла такую же роль, как Метьюс в Кембридже, толкавший его на путь религиозного скептицизма.
«Леди Мельбурн, которая могла бы быть мне матерью, вызывала во мне любопытство, какое могли внушать очень немногие молодые женщины. Это была очаровательная особа — своего рода современная Аспазия, у которой энергичность мужского ума сочеталась с изяществом и нежностью женщины. Я часто думал, что если бы леди Мельбурн была чуть-чуть помоложе, она вскружила бы мне голову». После леди Мельбурн ему больше всех в доме нравился супруг Каролины Вильям Лэм, «превосходивший меня, — говорил он, — так же, как Гиперион Сатира». Нужно ли было обманывать этого умного и сильного человека, который доверчиво протягивал ему руку? Предательство женщин приводило Байрона в ужас.
Он часто проявлял по отношению к леди Каролине непонятную жестокость. Однажды весной он принес ей первую розу и первую гвоздику:
— Я слышал, ваша светлость, — сказал он иронически, — что вы любите все новое и редкое — на одно мгновение.
Она ответила ему письмом на какой-то изумительной бумаге с кружевным бордюром, который по углам соединялся в раковины, трогательным и в то же время раздражающим письмом; нежная покорность тона терялась в вычурности стиля. Она сравнивала себя с цветком подсолнечника, который, «узрев однажды во всем его блеске лучезарное солнце, удостоившее на одно мгновение озарить его, не может в течение всего своего существования допустить, что нечто менее прекрасное может быть достойно его обожания и поклонения». Ненужное самоуничижение: Байрон любил, чтобы женщины относились к нему, «как к любимой и несколько своенравной сестре», а не как к господину. Он признавал два крайних типа женщин: «прекрасный идеал» робкой целомудренной женщины, который он создал из Мэри Чаворт, жившей в его воображении, и из детского воспоминания о Маргарет Паркер, и — веселую подругу. Женщина смелая, влюбленная, но которая в то же время требовала любви, в глазах Байрона нарушала приличие. Как когда-то правильно заметила леди Стэнхоп, он не понимал чувств других людей. И не хотел их понимать. Пламенные фразы леди Каролины были для него всего лишь утомительным и грубым шумом, который заглушал музыку, звучавшую в глубине его души. Ему хотелось легкости, непринужденности, сочетания веселого легкомыслия с неуловимой грустью; ему протягивали узы обожания, и он устало отворачивался.
Леди Каролина могла писать своему мужу, которого она больше не любила, очаровательные письма, но как только она принималась за письмо к Байрону, она неизменно впадала в трудно переносимый пафос. Она хотела угодить и решила показать ему свет. Она устраивала утренние приемы, на которые приглашались самые красивые и самые интересные лондонские женщины. Но салонная болтовня утомляла Скитальца, который шесть месяцев назад курил трубку, глядя на Акрополь под лазурным небом. Лежа на диване в Ньюстеде, он писал недавно: «Все, что угодно, только не спрягать с угра до вечера проклятый глагол «скучать». Теперь он с грустью думал о своем утраченном одиночестве.
Читать дальше