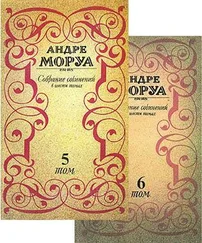Она питала отвращение ко всяким условностям. На своих письмах ставила вместо числа — «Бог весть какой день». Посылая своему брату книгу, уверяла, что не знает его адреса. Она славилась своей впечатлительностью. Её кузина, Гарриет Кавендиш, накануне доклада, с которым должен был выступить в Лондоне Бенджамен Констан, сказала: «Я просила Каролину прийти на доклад, потому что она расплачется и произведет сенсацию на всех нас». Всех восхищала её способность переходить внезапно, подобно шекспировским феям, от меланхолии к веселью, от непринужденной шутки к поэтической задумчивости. Поклонники называли её Ариель, Сильфида и восхищались этой очаровательной непоследовательностью; люди более тонкие считали, что её немножко портит манерность; женщины находили её искусственной, «нарочитой» и позеркой, которая только и думает, как бы удивить окружающих.
Она в первый раз встретилась со своим будущим мужем, Вильямом Лэмом, когда ей было тринадцать, а ему девятнадцать лет. Она уже раньше читала его стихи. У неё было «безумное желание» познакомиться. А увидев, влюбилась в этого юношу с блестящими глазами, с манерами денди и пренебрежительным видом, который ему так шел. Она понравилась ему: «Из всех молоденьких девушек в Девоншир-Хаузе, — сказал Вильям Лэм, — вот то, что мне нужно». С этого же дня он решил на ней жениться. Она долго не соглашалась. «Я обожала его, — признавалась она потом, — но знала, что я ужасное существо, и не хотела делать его несчастным». Он упорно домогался её и в 1805 году получил.
В день свадьбы невеста была восхитительна, но очень нервничала. Она рассердилась на епископа, который их венчал, разорвала свое подвенечное платье, упала в обморок, и её пришлось отнести в карету. Странное начало, но её очаровательному супругу, казалось, доставляло удовольствие продолжать портить этот столь неустойчивый характер. Вильям Лэм питал отвращение к морали: «Это скучно и это дурной тон. Может быть, я не прав, — говорил он, — но я никогда не могу испытывать ни малейшего раскаяния, никаких угрызений совести за те часы, которые мне доставили истинное наслаждение, будь то даже безумие или порок». Леди Мельбурн, женщина опытная, разделяла чувства своего сына и его взгляды на мораль, но не на то, что следует о ней говорить. Конечно, женщина может делать все безнаказанно, это она доказала, но все зависит от того, как делать. Она не одобряла открытого напоказ всему свету кокетства своей невестки, слишком откровенной радости, с которой та принимала ухаживания сэра Годфрея Уэбстера. Но Вильям смеялся, и Каролина безумствовала больше, чем когда-либо.
Леди Мельбурн, которая в течение своей долгой жизни успешно сочетала полную свободу действий с респектабельностью, пыталась внушить Титании законы светской мудрости. Они столкнулись — зрелая, но еще сохранившая свою красоту «женщина, с ясным, отточенным ироническим умом», и феерическая невестка, которая, грациозно ласкаясь, объясняла своей «дорогой, милой леди Мельбурн», что её поведение — результат поведения её мужа. Это Вильям называл её тихоней и скромницей, говорил, что она притворщица, и забавлялся тем, что учил таким вещам, о которых она и не слышала, так что в конце концов решила, что на свете все позволено. Странно было то, что сам Вильям казался несчастным, хотя старался этого не показывать. Чего он хотел? Каролина, со свойственной ей легкостью смягчая веселую откровенность налетом грусти, просила его позаботиться об их семейной жизни. «Мне кажется, мой дорогой Вильям, что мы с некоторых пор ведем себя невыносимо по отношению друг к другу… На будущее я обещаю быть молчаливой по утрам, веселой после обеда, кроткой, мужественной, как героиня в последнем томе, перед лицом всех бедствий, сильной, как горный тигр… но только вы должны мне говорить: «Побольше думайте и поменьше возражайте». Он ограничился тем, что записал у себя в дневнике: «Прежде, когда я видел, что супружеская чета живет плохо или чьи-нибудь дети невыносимы, я всегда осуждал мужа и отца. С тех пор, как я женился, я сознаю, что это было преждевременное и необдуманное мнение». Таково было супружество, уже наполовину разрушенное разочарованной женщиной, с которой лорд Байрон внезапно завел дружбу.
* * *
Новая для него роль альковного аббата импонировала ему больше, чем он в этом себе признавался. Ему нравилось приходить в одиннадцать часов утра и проводить целый день в будуаре женщины, читать её письма, ласкать её детей, выбирать ей туалеты на день. В течение первой недели дружба в Мельбурн-Хаузе носила платонический характер, Байрон «лениво рассказывал что-нибудь своим глубоким голосом», покачивая на коленях маленького мальчика Каролины, хрупкого ребенка с неподвижными глазами, который казался «не от мира сего». Байрон знал, что ей хочется видеть его байроническим, а не Байроном; он рассказывал ей о проклятии, тяготеющем над его родом, о Гордонах, о Злом Лорде, о смерти, которая постигает всех, кого он любит, о своей матери и друзьях, погибших в один месяц, а также о своем мраморном сердце и восточных красавицах. Она слушала его, затаив дыхание, и думала о том, как он не похож на Вильяма Лэма и как прекрасен.
Читать дальше