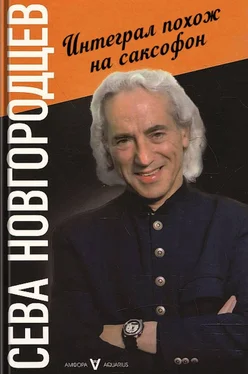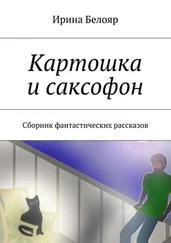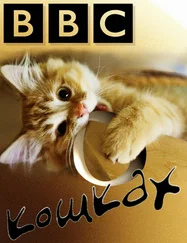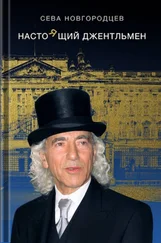Рассматривая его старые групповые фотографии: во время учебы в мореходке, плавания в каких-то экзотических местах, я удивлялся надписям на обратной стороне, которыми обменивались товарищи. В них было море любви друг к другу, которой в те годы не стеснялись, и какой-то нежной дружбы. Любовь и дружба, а рядом — аресты и лагеря.
С отцом это чуть не приключилось в 1939 году. Его судно стояло в немецком порту. Вахтенный доложил, что Бориса вызывает какая-то женщина у трапа. Оказалось, что это родственница, из той ветви семьи, что уехала в Америку. Как она узнала об отце, как нашла его — непонятно, но «контакт с иностранной гражданкой» был, «наличие родственницы за границей» очевидно, а этот факт капитан Левенштейн в своей анкете скрыл. Так написал помощник капитана по политической части в докладном письме в отдел кадров. Написал, скорее всего, не из подлости или нелюбви к своему капитану. Недоносительство, особенно должностное, было серьезным преступлением. Возможно, помполит сам сказал об этом отцу, потому что отец знал об этом письме, его содержании и о том, что оно будет отправлено из первого же советского порта.
Из Германии взяли груз на Архангельск, где отца ждала телеграмма неожиданного содержания: руководство Балтийского пароходства предлагало капитану Б. И. Левенштейну занять должность зам. начальника по эксплуатации, то есть оперативного управления судами. Отец позвонил в пароходство и рассказал о случае в германском порту и о письме помполита. «Этот вопрос мы отрегулируем, — сказали ему, — а вы приезжайте».
Балтийское пароходство было огромной организацией, руководители которой в те лихие годы появлялись неизвестно откуда и исчезали неизвестно куда. В том 1939 году два зам. начальника были арестованы.
— Что случилось с моими предшественниками? — спросил отец на собеседовании.
— Они совершили ошибки, — ответили ему.
— А если я совершу ошибку?
— Если небольшую, то поправим, — был ответ.
Через два года началась война. Отца призвали, он работал в штабе Ленинградского фронта, руководил поставками осажденного Ленинграда через Ладогу. Во время блокады, зимой, заболел тифом, двусторонним воспалением легких, целым «букетом» из восьми болезней. Был настолько слаб, что его посчитали мертвым и отвезли в морг. Но и тут Ангелхранитель как будто провел своим крылом. С фронта приехал военный моряк, друг отца, которого звали Юра.
— Где Борис?
— Он умер.
— Как умер?! Покажите!
Пошли в морг, Юра стал тормошить отца, слушать его и обнаружил признаки жизни.
Юра был в офицерском чине, он устроил страшный скандал начальственным голосом, и отца в конце концов откачали. Поправлялся он после этого восемь месяцев.
В 1950-е годы, когда мы жили в Таллине, Юра служил там капитаном 1-го ранга и часто приходил к нам в гости. Это был высокий мощный мужчина с раскатистым смехом, который съедал за один присест целую жареную курицу.
9 мая 1945 года для всей страны — это День Победы, а для меня это еще и День Памяти. Моей личной памяти, поскольку она у меня в тот день и началась. Первые воспоминания начинаются именно с этого дня, все, что было до того, — не помню.
Мне четыре с чем-то года, мы с матерью стоим у Елисеевского магазина, в Ленинграде, на углу Невского и улицы Пролеткульта, как тогда называлась Малая Садовая. Тротуары запружены народом, но не густо. Люди стоят тихо, неподвижно. На Невском — ни трамваев, ни машин. Ни оркестров, ни фанфар, ни приветственных криков.
В полной тишине по центру Невского идут вольным строем войска. Лица — как высеченные из камня, суровые, молча смотрящие вперед. Гимнастерки и форма — стираные-перестираные, выцветшие, цвета зеленовато-серой пыли. Ляжет человек в такой одежде в придорожную землю — и сольется с ней.
Так они и шли, а мы на них смотрели. А потом они все прошли, а мы постояли немного и отправились в Елисеевский, где продавали настоящий виноградный сок из большого стеклянного конуса с крантиком. Нацедили мне целый стакан. Я пил, а самому было виноградинки жалко — ведь их раздавили, чтобы этот сок получить.
Матери моей было чуть за тридцать. Высокая красивая блондинка со здоровым румянцем. И рядом я — тоненький, зелененький, переживший в эвакуации голод и дистрофию. Мать со мной ходить стеснялась. «Что же вы, мамаша, сынка своего не кормите? — часто говорили ей. — Ведь краше в гроб кладут!» А мать изо всех сил изощрялась, но я не ел. Помню, как терла мне гоголь-моголь, как розы делала из масла, утыкая их изюмом.
Читать дальше