Играли они «на руках» — вставать со стула Колыме было сложно. Однако, если отвлечься от тюремных декораций, то возникала иллюзия доброго дедушки, игравшего со внуком, — и еще, если отвлечься от того, что «внук» сидел за «убийство», а «дедушка» — за тяжкое телесное повреждение.
Я же во время «перекура» общался с «растаманами» — Сашей Проценко, которого начали выводить на швейку из Третьего отделения, и с парой ребят из Хабаровска. Парни были совершенно вменяемы и относились к жизни со здоровой долей фатализма, свойственной всем «растаманам» в СПБ. Их рассказы были похожи на диссидентские — много смеха и потом: «тут его и сажают». С Сашей мы продолжали наши теологические беседы, все вместе мы говорили о рок-музыке и даже тихо иногда пели что-нибудь из «Битлз», или «Hotel California»:
You can check out any time you like,
but you can never leave
— это было прямо про нас.
На швейке стоял стальной шкаф, который был вечно заперт, никто даже не догадывался о его содержимом. Открыли его только прошлым летом. Внутри оказалась древняя радиола и набор пластинок. Советские шлягеры середины 1970-х — видимо, с тех пор в шкаф и не заглядывали. Во время перекуров шкаф открывался, и разрешалось тихо послушать ту или иную песню.
Любаня прислала альбом Эвы Демарчик с «нашей» песней (я добивался получить диск две недели):
А может, нам с тобой в Томашов
Сбежать хоть на день, мой любимый…
Диск я знал — мы слушали его у Якира, это был подарок Ионыча. Когда я его слушал, в горле вставал комок — вспоминалось последнее лето 1979 года. С ноября я больше не мог его слушать.
Когда Любаня исчезла, весь «вольный» мир как будто померк. Обычно в рассказе о разводе всегда звучит нота «отсутствия» чего-то, что было частью тебя. Даже семантика языка подсказывает — «моя половина». В тюрьме все было иначе. Был мир сегодня и сейчас — грубый, жестокий, опасный — и был мир вне тюремных стен. Вдруг тот мир за стенами как будто исчез: в нем не было больше Любани, и мечтать о нем не получалось.
Я прекратил внутренние диалоги с Любаней, которые шли в голове постоянно с самого дня ареста. Я остался один. И сегодня больше внимания уделял тому, как шить.
По дороге в столовку меня «выступал» из окна Пятого отделения Саша Тельнов. Это был странный и не очень приятный тип — кажется, сирота, который провел полжизни в психбольницах и сидел не совсем понятно за что. Тельнов был высок и худ, как цапля. Для полного сходства на прогулках он еще сгибал шею.
Патологически худой, с птичьим лицом, Тельнов выглядел очень нездоровым, хотя ничем вроде и не болел — если не считать болезнью побочки от нейролептиков. Сейчас он вообще напоминал зомби — совсем серый и еще более тощий. Даже в отделении Тельнов кутался в бушлат.
Тельнов просунул мне в форточку ксиву, где излагалась странная история. Оказалось, что примерно месяц назад по его инициативе еще четверо зэков написали письмо Патриарху всея Руси Пимену с жалобами на пытки нейролептиками. Странно, что среди них был и матерый уголовник Борода. Правда, про Бороду уже говорили, что у него то ли «поехала крыша», то ли, наоборот, он взялся за ум. Стал поститься, попросил кого-то написать ему молитву и молился каждый день утром и вечером, не забывая при этом, как и раньше, обирать сокамерников, но уже более милосердно.
Неизвестно, передали письмо в КГБ сразу из Патриархии или же отправили назад в Благовещенск, но в Пятом отделении начальник Шпак допросил по очереди всех подписантов — они имели глупость указать свои фамилии — и задал только один вопрос: «Через кого из санитаров передали письмо?»
Естественно, зэки «ничего не знали», после чего Шпак уложил всех на вязки и объявил, что будут получать сульфозин и галоперидол до того дня, пока не скажут. Через неделю кто-то сдался — и его даже нельзя осудить, ибо после такого человек не только не понимает, что правильно и что нет, но и как его зовут.
На прогулке Бородин подтвердил историю. Выяснилось, что уголовники устроили акцию «сепаратно» и так, что о ней никто не знал — пусть политзэкам доверять они бы и могли. Впрочем, Бородин в любом случае не стал бы подписывать письмо. Его крестьянская смекалка подсказывала, что писать в Патриархию — то же, что писать явку с повинной в КГБ.
На всякий случай во дворике мы с Бородиным обнялись на прощание — если завтра меня уже там не будет [91] После освобождения Бородин продолжит свои изучения Библии и к политике, как, впрочем, и раньше, отношения уже не будет иметь.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
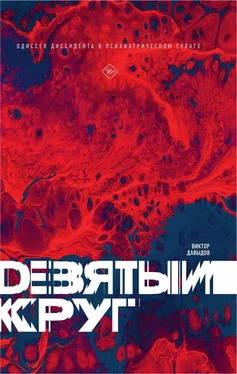




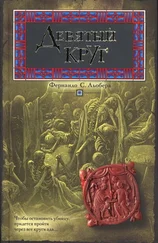



![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/422789/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres-thumb.webp)


