Когда я процитировал одного из немецких философов: «Тоталитаризм оставляет право на личную жизнь, лишая права на жизнь общественную», Волков возмутился.
— В первую очередь на личную жизнь и лишает. Сына убили, семья распалась — где личная жизнь?
Он был прав. Ибо ни сталинские зэки, ни жители полпотовской Кампучии, которых женили по приказу, тоже не имели права на личную жизнь. Немецкие философы знали только нацизм, а что такое полноцветный тоталитаризм, не могли себе представить. Как не мог себе представить и Оруэлл, у которого в Ангсоце граждане пьют кофе и джин. Зайди Уинстон Смит в самарский магазин, он обнаружил бы там только «кофейный напиток» из цикория и какую-то бурду из смеси спирта, абрикосовой эссенции и сиропа — и наверняка запросился бы назад в Ангсоц. Благо Большой Брат и в Самаре надзирал за каждым на каждом углу.
На прогулке мы говорили о комиссии. Волков вообще отказался на нее идти: «Не хочу участвовать в комедии — все равно, пока жив Брежнев, не выпишут». Медсестры уговаривали его сходить на комиссию — видимо, Бутенкова очень хотела от Егорыча избавиться, — конечно, это было как об стену горох.
Я же отправился на комиссию, как на собеседование после вступительных экзаменов, когда знаешь, что баллов ты недобрал, но все равно важно, о чем будет разговор.
Вся комиссия состояла из двух вопросов и заняла три минуты. В центре стола восседал профессор Колотилин из хабаровского мединститута, с не совсем адекватной улыбкой. «Одесную» от него сидела Бутенкова, «ошуйю» — Шестакова, далее — Кисленко и прочие психиатры в строгом соответствии с их чином МВД. Психиатры были явно напряжены — от политического они, по умолчанию, ожидали неприятностей.
Первый вопрос был стандартным: «Как себя чувствуете?» Второй был сложнее: «Как относитесь к тому, что совершили?»
Этот сценарий я уже знал, но найти ответ было непросто. Признавать себя виновным было столь же невозможным, как признавать вину и на следствии — но излагать свои убеждения открытым текстом было бы самоубийством.
Посему я изобрел формулу, которую можно было понимать «как хочешь»:
— ТАК бы я делать не стал.
Что это означало — «не стал бы писать» или «сделал бы так, чтобы КГБ не словило меня с поличным», — можно было понимать равнозначно. Психиатры поняли по первому значению. Бутенкова тут же расслабилась, глянув краем глаза на нее, расслабились и другие психиатры. Честь учреждения ИЗ-23 /1 СПБ была спасена.
— Ну, идите, лечитесь дальше.
Смысла в этой фразе не было никакого: нейролептиков я давно уже не получал. Моим «лекарством» была «стенотерапия». Комиссия оказалась обычной советской комедией абсурда. Егор Егорыч был прав, посылая своим отказом явиться Бутенковой и прочим именно этот месседж.
На прогулке Егор Егорыч шагал мелкими шажками — он был низок ростом, но энергичен и всегда бодр. Каждое утро его можно было застать в туалете полуголым, с полотенцем на пояснице — Егорыч обливался ледяной водой, а меня знобило только от одного этого зрелища. Однако Егорыч перенес в СПБ туберкулез и понимал цену здоровья.
Курил он три-четыре сигареты в день исключительно для удовольствия, поэтому на свои продукты я покупал у санитаров ему «Приму», рискуя, как выяснилось, собственной задницей. Но это было святое.
Каждую посылку я делил пополам с Егорычем, и мы поедали ее вместе, ну, делясь разве что с кем-то из политических. Одним из них был Толя Аваков.
Толя сидел в Пятом отделении, нас объединяли на прогулке, ибо Пятое отделение работало в две смены, начинавшиеся еще до подъема, — оно готовило еду на все СПБ. С первой сменой мы и бродили по дворику.
В Пятом отделении Толе было несладко. Почти пять лет подряд в СПБ ему приходилось глотать нейролептики, он получал трифтазин — и это было сразу заметно по его трясущимся рукам, которые били о бедра даже тогда, когда Толя спокойно стоял.
Аваков оказался за решеткой уже во второй раз. Сначала в 1969 году он, рабочий из Комсомольска-на-Амуре, написал на выборном бюллетене антисоветский лозунг и опустил бюллетень на «тайном голосовании» в урну. Кроме того, возмущенный оккупацией Чехословакии, Толя, также без подписи, отправил несколько писем в редакции советских газет. КГБ «анонимщика» нашел и отправил его на пять лет в «солнечную Мордовию».
О втором своем аресте Аваков отзывался пренебрежительно. Поняв, что жизни под колпаком КГБ ему не будет, он решился бежать — в Китай. Плана вообще никакого не было. Пытался пробраться к Амуру, быстро нарвался на пограничников — после чего оказался в СПБ.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
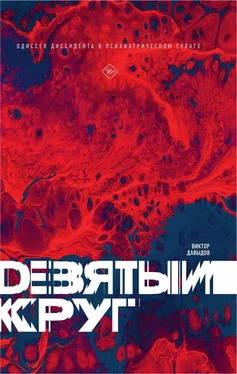




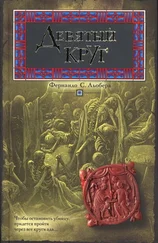



![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/422789/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres-thumb.webp)


