— Еврей, что ли?
Об этом можно было не спрашивать: лицо было курносым, но все остальные черты сразу выдавали семитское происхождение. Внешне Фридман был удивительно похож на Бабеля — а то и на какого-то «мишугенера» из рассказов Шолом-Алейхема.
Историю его тоже надо было бы писать Шолом-Алейхему — пусть в оные времена и не было СПБ. Фридман происходил из семьи простых евреев, которые в 1930-е приехали в Еврейскую автономную область, то ли польстившись на обещания рек с кисельными берегами, то ли приняв предложение, от которого нельзя было отказаться.
Семья работала в колхозе, Лева тоже образования не имел, но подрабатывал, играя в рок-группе колхозного дома культуры. Его директора музыканты убедили купить им хорошую аппаратуру, которая стоила аж две тысячи рублей, — но поиграли на ней только один вечер. Вдохновившись качеством звука, через несколько дней рок-группа в полном составе выкрала гитары и усилители, растащив их по домам. Все обставили как ограбление со взломом.
Совершенное Фридманом должно было получить очередную номинацию на «Самое идиотское преступление года». Местному участковому понадобились сутки, чтобы его раскрыть — кроме музыкантов, украсть гитары в поселке было просто некому.
Все решилось по-деревенски. Дело закрыли явками с повинной, аппаратуру вернули, ущерб был полностью возмещен.
Однако через несколько месяцев семье Фридманов пришла в голову мысль, что на свете есть и лучшие места для евреев, чем поселок в Еврейской автономной области на Дальнем Востоке — где и евреев к тому времени не осталось (как шутил сам Лева, во всей области остался только один еврей — первый секретарь обкома Шапиро). Фридманы — как обычно — получили вызов от липового родственника из Израиля и подали заявление на выезд в ОВИР.
И тут молот советской юстиции опустился на голову несчастного Левы со всей силой.
Дело по краже инструментов было внезапно возбуждено вновь. Новая экспертиза почти удвоила стоимость «похищенного». Организатором групповой кражи был назначен несчастный Фридман — все прочее было делом техники КГБ. Русские музыканты отделались какими-то несерьезными наказаниями вроде «товарищеского суда», а Фридмана психиатрическая экспертиза признала не только невменяемым, но и особо социально опасным. Так он оказался в СПБ.
Фридман пытался устроить себе постель на бывшем месте Соколова — что было непросто, ибо свободного пространства не было: койка была зажата между соседними почти без просветов. Стоя на койке, Фридман пытался кое-как покрыть матрас простыней — тогда как Астраханцев, почуяв жертву, вдоволь над ним издевался:
— Так ты обрезанный? А ну покажи.
— Да нет, у нас и синагоги не было, — всерьез отвечал Фридман. Он явно уже привык к антисемитским шуткам, отнекивался и только пытался вытянуть из-под себя простыню, которая никак не вытягивалась, ибо на ней он и стоял.
После двух часов врачи расходились, медсестры успевали сбегать в столовую-магазин при СИЗО, вернувшись с завернутыми в газету кусками мяса, сыра и кольцами сосисок. Ничего больше не происходило, и послеобеденное время, как и в Первом отделении, было тоже нечем занять.
Разве что радио что-то занудно бубнило о трудовых буднях тихоокеанских китобоев. Еще до таблеток в Первом отделении я попросил присылать мне читать книги и журналы. С тех пор каждую неделю получал от мамы и Любани «Новый мир», «Иностранную литературу», «Вопросы философии» и даже «Науку и жизнь».
Сейчас все журналы строились аккуратной стопкой под подушкой, делая этот тонкий кусочек ваты хоть чуточку более удобным для сна — не более того. Читать я не мог: орган восприятия слов и идей отсутствовал, вместо него голова была набита плотной серой ватой.
Каждую фразу приходилось перечитывать дважды. К концу сложносочиненного предложения содержание его начала исчезало в тумане. Стихи можно было читать — но по строчкам без связи с предыдущими. Иногда я впадал в ступор, пытаясь вспомнить, что значит то или иное слово.
В «Иностранной литературе» печатали перевод «Портрета художника в юности» Джеймса Джойса. Это было событие — кажется, вторая публикация Джойса в послевоенное время после «Дублинцев» — и самое неподходящее чтение для человека, глотающего трифтазин.
Ад — это тесная, мрачная, смрадная темница, обитель дьяволов и погибших душ, охваченная пламенем и дымом… Зрение казнится абсолютной, непроницаемой тьмой, обоняние — гнуснейшим смрадом, слух — воем, стенаниями и проклятиями, вкус — зловонной, трупной гнилью, неописуемой зловонной грязью, осязание — раскаленными гвоздями и прутьями, беспощадными языками пламени. Далее я пройти не мог.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
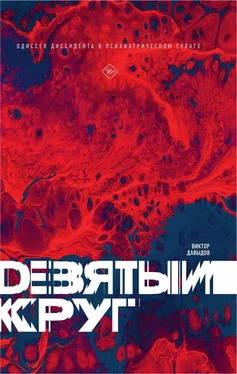




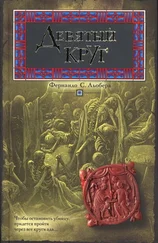



![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/422789/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres-thumb.webp)


