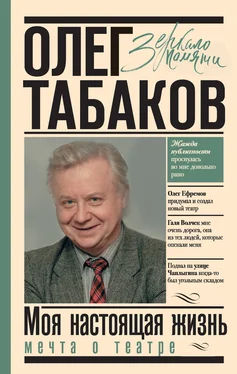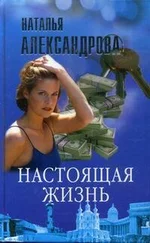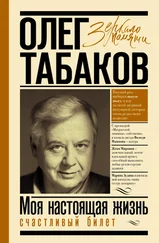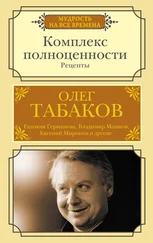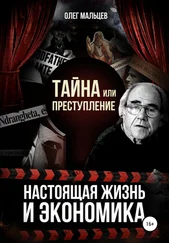Ну не могло мое поведение понравиться.
Мечту о новом театре уничтожили руками вполне конкретного человека – Виктора Васильевича Гришина, члена Президиума, члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря МГК партии, окончившего Коломенский паровозостроительный техникум и по этой причине действительно всерьез разбиравшегося в вопросах культуры, искусства, а также сельского хозяйства и промышленности.
Для того чтобы открыть театр, требовалось разрешение либо Министерства культуры, либо Комитета по культуре города Москвы. Вот это разрешение Гришин выдать и не позволил, мотивируя свой поступок «политической незрелостью» и «непредсказуемостью поведения» Табакова. Таким образом, этот человек отнял у нас семь самых прекрасных, самых смелых лет, когда мы верили в свои силы, когда можно было горы свернуть и легко сделать то, для чего нам впоследствии потребовалось столько времени.
Из любимца Гришина я превратился… нет, не в гонимого. При всей своей мощи он не смог бы меня сожрать, потому что я был уже значительной и автономной персоной в театрально-кинематографическом цехе. Но не мог я его и победить… Письмо в мою защиту с просьбой о создании театра подписывали известные люди: С. Т. Рихтер, Д. Н. Журавлев, М. А. Ульянов, B. C. Розов… Они с этим письмом ходили на прием к Гришину, но их просьба была категорически отвергнута. Как рассказывал мне Виктор Сергеевич, человек деликатный, но прямой, позвонивший сразу после возвращения из горкома партии: «Вы знаете, Олег, а ведь никто про вас хорошего слова не сказал. Понимаете, какая вещь?» Милый, милый дядя Витюша…
Между тем после всего случившегося общественные организации Бауманского района продолжали помогать нам, как и раньше. А это означало, что от существования, хотя бы и полулегального, нашего маленького театрального организма, пробивавшегося зеленой травинкой сквозь асфальт, что-то прирастало к душам людей, стремящихся попадать на наши спектакли снова и снова.
Я продолжал бороться за жизнь своего театра. Вместе с Анатолием Смелянским, который в то время был завлитом в ЦТСА, мы составили следующий план: я пойду в ЦТСА актером и режиссером, а ЦТСА даст нам малую сцену для наших работ и экспериментов. При условии, что берут всех – пятнадцать человек сразу. Этот план поддержал мой приятель, служивший в Политическом управлении армии. Все было сговорено, но в последний момент Гришин опять перекрыл нам кислород. Я включаю другой сценарий: решаюсь взять гастрольный Театр комедии при ВГКО. Тогда ВГКО возглавлял опальный бывший секретарь обкома партии с Сахалина, человек смелый, не побоявшийся мне дать этот театр, приняв всех моих выкормков. Казалось, дело на мази, вот-вот должно было получиться – и опять нас раздавили. Третий план был уже совсем фантастический: оздоровление нравственного климата в подмосковном городе Подольске, славившемся высоким процентом преступности. Придумали так: мы организуем театр, и все криминальные элементы с улицы пойдут в театр, смотреть спектакли и нравственно оздоравливаться. Но нашу хитрость быстро расчухали и решили: «О-о-о! Да он хочет там сделать вторую Таганку!» Да, вычисляли они все не просто грамотно, но и очень серьезно. Придушили и наш «подольский проект».
Последним был мой отчаянный вопль, обращенный к «Современнику»: «Возьмите нас к себе, мы будем делать все, что полагается молодежи: играть эпизоды и массовые сцены, а за это, по ночам, в свободное время, готовить свой репертуар!» Но я услышал: «Нет, Лёлик, этого не будет, потому что ты человек увлекающийся, сегодня тебя интересует одно, завтра другое…» И не то чтобы я подвергал сомнению формулировку, что я «человек увлекающийся» и даже человек легкомысленный. Мне стала очевидна закономерность ошибки, регулярно совершаемой театрами на протяжении долгого времени. А это, на мой взгляд, была ошибка «Современника», такая же, как и ошибка МХАТа, в 1957 году отторгнувшего от себя «Современник».
Отторжением новой актерской генерации исчерпывается шанс обновления устоявшегося театра.
Художественный театр произвел обновление в 1924 году, когда Станиславский и Немирович после возвращения из американских гастролей взяли в театр огромную группу молодежи. Хмелев, Яншин, Тарасова, Степанова, Грибов, Ливанов, Массальский – все они стали корифеями к середине сороковых-пятидесятых годов. Именно эти новобранцы позволили Художественному театру зажить полноценно, влить «новое вино в старые мехи». Ничего аналогичного акции Станиславского и Немировича двадцать четвертого года и вспомнить нельзя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу