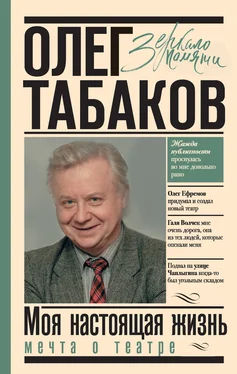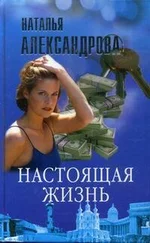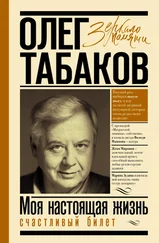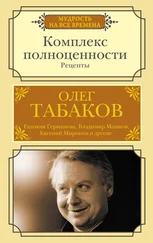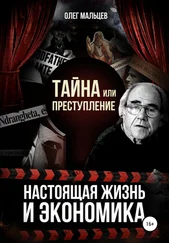Единственная запись «Маугли» осталась на телевизионной студии города Дебрецена. На родине возможности фиксировать студенческие спектакли на пленку не было.
Вообще, по легенде, в старом русском театре, если у актера удачно получался монолог, его надо было повторить. Кланяться полагалось после каждого акта, а иногда и после хорошо сыгранной сцены кланялись. Так проявлялось уважение к публике.
Успех, обрушившийся на Подвал, где показывались студенческие спектакли, давал нам важнейшее ощущение того, что все, что мы делали, было не зря. Что вся эта студия живет не зря. Успех был доказательством наших надежд и усилий. Подтверждением, что мы живы и состоялись.
Спектакль «Прощай, Маугли!» не имел аналогов. Это как бозон Хиггса, открытый физиками-ядерщиками в 2012 году. Я думаю, что беды, несчастья и трагедии, воспоследовавшие вслед за этим с некоторыми нашими студийцами, очень похожи на то, как Икар, приблизившийся к Солнцу, достиг высшей точки возможного, но воск растаял, и он упал на землю…
Они, будем говорить так, во многом сами от себя этого не ожидали. Я иногда ловил, как девчонки смотрели на пластавшегося, почти парящего над полом Андрейку Смолякова или Ваську Мищенко, взбегающего на полтора метра вверх по стене…
Конечно, в значительной степени я объясняю это тем, как мы любили своих учеников. И эта любовь, видимо, давала им силы, которые трудно с чем-то сравнить…
Практика, практика и еще раз практика
К 1980 году наш репертуар включал в себя уже шесть спектаклей, то есть на каждый день недели нами предлагалось новое зрелище, что фактически представляло собой репертуар любого профессионального театра. Каждый студиец моего первого набора перед получением диплома сыграл на профессиональной сцене не менее трехсот спектаклей. Трехсот! Сейчас студенты, заканчивающие театральные вузы, играют по двадцать, тридцать спектаклей, а уж если по сорок – то это чрезвычайное событие. Да и во все времена так было. Поэтому наши студийцы были подготовлены значительно лучше, чем многие их сверстники.
«Обучательный» процесс в театре происходит по единственной схеме: ты смотришь спектакль, который сам поставил, потом делаешь замечания, а люди в следующий раз твои замечания реализуют. Затем ты опять и опять корректируешь их работу. И вот этот перманентный процесс и является самой эффективной, самой доступной и самой производительной формой театральной педагогики.
Но воспитание артистов происходит не только на сцене. Лично я начал с… сортира. Обыкновенного нашего подвального сортира, которым пользовались не только артисты, но и зрители. Несколько дней подряд я, а затем Гарик Леонтьев драили его, дабы показать студентам, не привыкшим к чистоте отхожего места, что это не менее важно, чем все остальное, потому что театр – наш дом и относиться к нему надо соответственно. С того момента сортир стал неотъемлемой частью забот студийцев, доводивших его состояние до распространяющей благоухание дезодорантов стерильности. В «теплой» комнате мы устроили так называемую «трапезную», где стояли подаренные Зоей Павловной Бойко странные диваны-колымаги с кожаными сиденьями и деревянными рамами с серпами и молотами. На них мы сидели и пили сладкий чай с булками – это угощение было в Подвале всегда. Велся журнал дежурных, отвечающих за порядок и чистоту в Подвале, а также постоянное наличие горячего чая и свежего хлеба.
Кроме студентов, в Подвале скоро появились люди, желавшие хоть чем-то быть полезными нашему живому нарождающемуся театральному делу. Никаких регламентированных функций у них не было, они просто приходили и помогали в охотку. Так у нас появился Витя Шендерович, кроме прочего, успешно игравший в стае в «Маугли», Гриша Гурвич, на какое-то время даже поселившийся в Подвале за неимением жилья, были и другие ребята.
Наша подвальная экосистема, если можно так выразиться, слагалась удивительно естественным образом – ничего заранее спланированного в ее эволюции не было…
В то время Подвал существовал в основном на мои деньги.
Беспрецедентный случай: в обществе развитого социализма, при «попустительстве» партийных и советских властей, в центре Москвы существовала наша частная, капиталистическая театральная единица. Даже такая организация, как Комитет госбезопасности, воспринимала нас вполне лояльно – видимо, по принципу, что у Бога всего много и наряду с официальным искусством – Большим и Малым театрами, МХАТом и Госцирком – существуем и мы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу