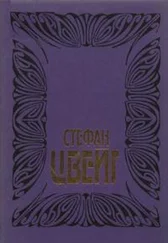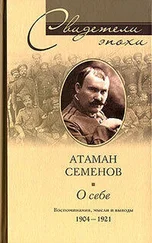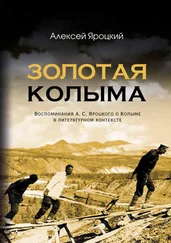Дважды на улице я видела, как папа обрадовался своим друзьям. Один был какой-то Иван Иванович – по-видимому, актёр – фамилии не знаю – огромный, толстый и улыбающийся. А второй был Борис Пронин 125 125 Пронин Борис Константинович – актёр, инициатор создания знаменитого артистического кабаре «Бродячая собака» в Петербурге (1912–1915).
. Вдруг папа оставил меня, бросился к какому-то человеку, и они оба, обнимая друг друга, закрутились на месте. Потом, когда они расстались и мы пошли дальше, он говорит: «Ну ты пойми – это же Борис Пронин!» Мне пришлось приставать к нему, чтобы он рассказал, кто такой Пронин. Вот так я впервые услышала о «Бродячей собаке», о людях, собиравшихся там.
Однажды, я на всю жизнь это запомнила, к моей маме пришли её друзья. Её приятельница, Елена Александровна, должна была уезжать вместе с мужем (он был геолог-золотоискатель) куда-то в Сибирь. Был устроен прощальный вечер, и папа пел, и был он в особенном ударе. Я помню, как Елена Александровна сидела тихо, смотрела на папу мечтательно. И несмотря на то, что с ней рядом сидел её муж, она вдруг сказала: «Вот за таким голосом я бы встала и пошла куда угодно». На что мама ей ответила: «Я так и сделала». Именно так оно и было.
С папой маму познакомил её брат – архитектор Лев Владимирович Руднев 126 126 Руднев Лев Владимирович (1885–1957) – крупный архитектор, лауреат Государственной премии СССР, автор проекта здания МГУ на Ленинских (Воробьевых) горах.
. Это было через «Бродячую собаку». Дядя Лёва там часто бывал. Папа пел неаполитанские песни. Они познакомились. Выяснилось, что папе негде жить. Мама и брат жили вместе в одной квартире. В три часа ночи дядя Лёва приволок домой какого-то очаровательного молодого человека, сказав маме: «Вот, Муня, познакомься. Ты знаешь, как он поёт? Он приехал из Италии, будет жить у нас!» Сам дядя Лёва в это время очень ухаживал за своей будущей женой, и ему было ни до мамы и ни до кого-нибудь. Потом он уехал в Севастополь, а Севастополь отрезали от России, и было неясно, вернётся ли он когда-нибудь оттуда.
Основное, что не нравилось маминой сестре, когда мама выходила замуж за папу, так это его положение: ни кола, ни двора, ни квартиры, ни положения, ни вообще какой-либо работы – ничего.
Они мечтали поехать вместе в Италию. Все мамины сёстры и брат – все бывали за границей. Кто учился, а кто просто так ездил. А мама была самая младшая. И она нигде никогда не была. Не было возможности: она сидела с больной матерью.
Вообще было много перемен, скопленные деньги превратились в ноль, и, конечно, стало ясно, что никакой поездки в Италию уже не может быть. Художник Андрей Тырса говорил маме обо мне: «Я знаю, почему у Вашей девочки такие голубые глаза – она родилась в мечтах о Средиземном море». Голубые глаза у меня были довольно долго, даже не голубые, а синие. У многих людей глаза меняются в зависимости от настроения. Во всяком случае, когда я однажды сидела в классе, на переменке мне было очень весело, и мои девочки сказали мне: «Слушай, у тебя синие глаза». Они были серо-голубые и вообще непонятно какие. А мечта о Средиземном море всё-таки была.
К тому времени, как дядя Лёва вернулся, то тут была уже семья, была уже я. В те времена казалось невозможным проживание двух семей в трёхкомнатной квартире. Коммуналки появились чуть позже. Выселить маму с ребенком дядя Лёва, естественно, не мог. Поссорившись с папой (они наговорили друг другу резкостей), дядя Лёва с семьёй вынужден был искать себе квартиру. Маме он заявил, что ноги его в этом доме больше не будет. Слово своё сдержал. И появился в доме только после ареста папы.
От людей, которые сами сидели и вернулись, знаю, что формулировка эта означала расстрел. Приговор ведь был такой: 10 лет без права переписки, дальше – восточный край, это означало – человека не будет. Я ждала его. Ждала и через десять лет, и через двадцать лет. Меня очень сбили мои бывшие соседи по лестничной клетке, которые, когда я как-то приехала в Ленинград, сказали мне, что после войны приходил один человек, очень похожий на Григория Фабиановича, который спрашивал, не знает ли кто, где мы…
Ну, мне сказали, – если хотите, подавайте на кассацию. Но зачем мне это было, человека же не вернуть? А остальное мне не важно.
Единственное, что осталось, – это письма отца ко мне. Это всего-ничего, какие-то там открыточки с его знаменитым почерком, которого никто прочесть не мог. Его открытки летом всем родственным кланом пытались прочесть, и каждый читал открытку по-своему. Когда папа возвращался (он обычно летом уезжал в Крым, в горы), мама его спрашивала: «Григ, а что ты здесь написал?» – «Что ты от меня хочешь, – говорил он, – это же было месяц тому назад». Он тоже не мог прочитать. Действительно, я помню – прочесть было невозможно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Григорий Сковорода - Наставления бродячего философа [Полное собрание текстов]](/books/27633/grigorij-skovoroda-nastavleniya-brodyachego-filosofa-thumb.webp)