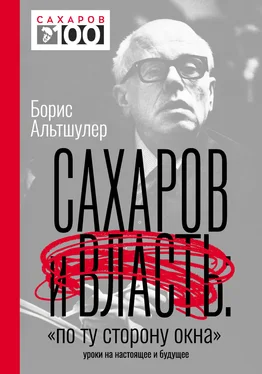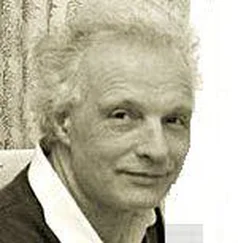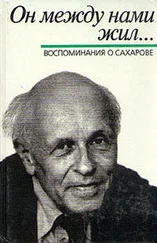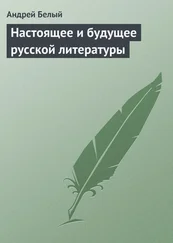Когда я, сидя на казенном стуле и у казенного стола в казенной сахаровской квартире, рассказал о пребывании в опорном пункте (там и днем горел свет, так что они видели меня сквозь стекла окон), Андрей сказал, что он проиграл в уме всю ситуацию и процентов на 60 рассчитывал именно на такой исход. Только он не думал, что все будет так быстро. И упрекнул и меня и себя, что мы сходу не “продлили разрешения” на следующие разы.
– Ладно, будем считать, что тогда он сказал не “навестить”, а “навещать”.
Я не буду пытаться воспроизвести здесь беспорядочный разговор во время застолья. Тем более что вели его в основном Люся и я, а Андрей явно наслаждался, слушая жену, и только изредка вставлял реплики. Не помню уж, в связи с чем я процитировал “Сон Попова”, и вдруг выяснилось, что Андрей даже не слыхал раньше про это произведение. У них дома было лишь дореволюционное издание А. К. Толстого.
– Прочти, что помнишь, – попросил Андрей.
Я не раз читал “Сон…” моим и чужим детям и практически знал его наизусть. По окончании моего сольного выступления я еще раз подивился тому, что Андрей не знал “Сна”, ведь его передают иногда по радио. Запись исполнения Игорем Ильинским.
– Теперь существует еще одна запись! – засмеялся Андрей и, показав пальцем в потолок, добавил, что и эта запись достойна широкой аудитории.
Нам было хорошо сидеть за столом, уставленным люсиными выпечками и припасами, неспешно вспоминать старое, немного судачить об общих друзьях и не принимать в расчет реальность, дежурившую за дверью и окнами. Андрей удивительно точно выразил это:
– А помнишь, как в “Татьяниной Церкви” (старый клуб МГУ) Анатолий Доливо пел: “Миледи смерть, мы просим вас за дверью подождать…”
* * *
Встреча, летом 1981 г., тоже началась у киоска “Союзпечати”. Только на этот раз со мною пришла жена, а на площади в перегнанной к тому времени из Москвы машине ждала Люся. Мы посидели часок в сквере у памятника Горькому, покатались по городу (“в пределах строгих известного размера бытия”, – вспомнил Андрей Вяземского), а потом надолго, до глубокой темноты осели на Откосе. Если не ошибаюсь, Сахаровы были здесь в первый раз, они освоили лишь берег Оки в окрестностях Щербинок.
Андрей расспрашивал о последних месяцах жизни незадолго до этого скончавшегося Михаила Александровича Леонтовича, сам рассказал про привлечение Леонтовича к работам по управляемому термоядерному синтезу. Именно тогда, от Андрея, мы узнали, что Берия действительно произнес фразу “Будытэ слэдыт, не будэт врэдыт”, которую раньше считали апокрифом. Настроение у Андрея и Люси было подавленным. Их очень мучила вся ситуация с Лизой Алексеевой, и мы долго проигрывали различные варианты ее вызволения. И для меня впервые прозвучала мысль о голодовке. Тогда, правда, еще в предположительном наклонении, как о возможном крайнем средстве.
На Запад уже полетели первые ласточки дезинформации о благоденствии Сахарова в Горьком. Андрей с горечью сказал мне:
– Не хватает, чтобы мы с Люсей стали распевать куплет Василия Львовича:
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов! [109] Рефрен послания В. Л. Пушкина к нижегородцам в 1812 г.
Мы проводили Сахаровых до машины, оставленной на параллельной Откосу улице. Постояли около нее с полчаса. Кругом ни души.
– Будем считать, что на этот раз нас не зафиксировали, – сказал Андрей».
Марина Сахарова-Либерман (внучка Андрея Дмитриевича, дочь его старшей дочери Татьяны, из статьи «Обаятельная и несгибаемая зверюга в юбке» в книге [19]):
«Годы горьковской ссылки для меня смешали в себе и самое близкое, неторопливое общение с дедушкой и Еленой Георгиевной, и воспоминания о самых трагических событиях их жизни. Иногда, когда я приезжала в Горький на каникулы в теплое время года, мы шли гулять на Оку, где можно было настроить радиоприемник на “Голос Америки” и “Свободу”, избежав персональной глушилки над дедушкиной квартирой, которая не позволяла никогда послушать радио дома. В зимние холодные вечера мы могли часами сидеть вместе в гостиной, за телевизором, чаем и болтовней, с Еленой Георгиевной с какой-нибудь штопкой в руках. Мы ездили в лесок на прогулку, а за дедушкиной “Ладой” неотступно следовала одна и та же “Волга”…
Дедушкины голодовки… Я не раз слышала аргумент, что “жизнь Сахарова много дороже причин и людей, за которых он голодал”. А раз так, Елена Георгиевна оказывалась виноватой в том, что делал дедушка… Правильное решение принимал ли дедушка, нет ли – ни у кого нет права их судить. Голодовки дедушки были чудовищно трагичны для всей семьи».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу