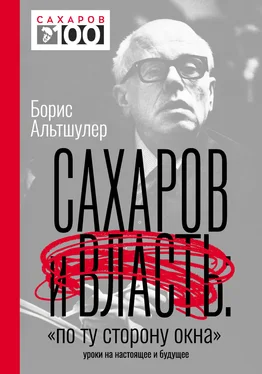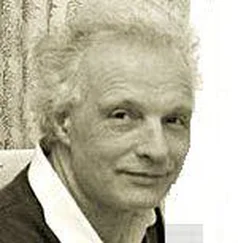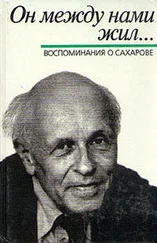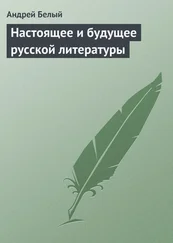БА:
В последующие годы, как и ранее, Сахаров вместе с друзьями-правозащитниками продолжал ежедневную рутинную работу помощи конкретным жертвам политических репрессий, а также выступал по вопросам стратегической ядерной безопасности.
Но появилась и важная новость: благодаря борьбе советских правозащитников, включая Сахарова, защита прав человека приобрела статус принципа глобальной значимости, в том числе и в большой политике.
Воспринимаемая сегодня как самоочевидная, триада Сахарова «Мир, прогресс, права человека» по сути дела совершенно нетривиальна. Действительно, почему ключ к спасению человечества от термоядерного самоуничтожения – в соблюдении индивидуальных прав человека, в борьбе за каждого конкретного узника совести? Да, известная в древнем Израиле мудрость гласит: «Спасший человека спасает Вселенную. Убивший человека убивает Вселенную» (эту фразу произносили судьи, когда рассматривались дела об убийстве). Но кто когда этому следовал? А Всеобщая декларация прав человека ООН от 10 декабря 1948 г. очень долго оставалась одним из тысяч документов ООН, о котором мало кто вспоминал.
Неожиданное глобальное внимание к правам человека середины 1970-х воспринималось, как чудо. Основные вехи этого чуда:
• правозащитная «третья корзина» Хельсинкского заключительного акта, подписанного 1 августа 1975 г. главами 35 государств, включая и Л. И. Брежнева (само Хельсинкское совещание было созвано по инициативе социалистических стран Варшавского договора, то есть фактически по инициативе Брежнева, который, как говорилось выше (глава 14), внимательно читал все материалы Сахарова тех лет начиная с «Размышлений» 1968 г.);
• Нобелевская премия мира Сахарова (октябрь 1975 г.);
• провозглашение – впервые в истории – новым Президентом
США Джимми Картером защиты прав человека как важнейшего приоритета политики США (январь 1977 г.).
И даже в новой «брежневской» Конституции СССР 1977 г. появилась статья 49 со словами: «…преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к ответственности» (по совету Софьи Васильевны Каллистратовой я использовал эту формулу как основание для отказа от дачи показаний на допросах в Лефортово и на Лубянке в 1980 и 1981 гг.).
Разумеется, «гладко было на бумаге». На практике все потом было, мягко говоря, непросто в большой политике, в позициях того же Джимми Картера. Не говоря уж об СССР, где преследования по «антикрити-ческим» статьям 70 и 190-1 УК продолжались и усиливались. Включая и аресты членов Хельсинкских групп, поставивших задачу мониторить исполнение «третьей корзины» Хельсинкского акта, подписанного лидером СССР. Вот такая целенаправленная демонстрация на весь мир, что подпись под Хельсинкским актом Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева ничего не стоит.
Но и для лидеров стран Запада поначалу мало что стоила их подпись под Хельсинкским актом. Насколько машина большой политики «ржавая», видно по первичной реакции (по отсутствию адекватной реакции) руководителей стран – участниц соглашения в Хельсинки на аресты членов советских Хельсинкских групп. Одна из основных задач, которую решало правозащитное движение в последующие годы, – побудить обитателей «политических олимпов» сделать нечто, ранее для них невозможное и противоестественное: разглядеть где-то далеко «внизу на земле» отдельного страдающего человека.
Что касается лично Сахарова, то тяжелейшим испытанием для него в эти годы стало заложничество близких.
* * *
1985 год – начало той бурной эпохи последних семи лет существования СССР, которая получила название «перестройка». Эти годы с надеждами перестройки и крушением этих надежд предопределили историю России с 1992 г. по настоящее время. Потому что те глубокие системные причины, которые крушили надежды перестройки, в полной мере присутствуют и сегодня, в 2021 г.
Сахаров жил и действовал в первые пять лет этой бурной семилетки, в 1985–1989 гг. С его именем прямо связаны первые два чуда перестройки: освобождение политзаключенных в 1987–1988 гг. и договор СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности в декабре 1987 г.
Оба эти исторических чуда были ударом по всемогуществу двух главных правящих элит СССР: партийной номенклатуры и номенклатуры военно-промышленного (военно-политического) комплекса. Сахаров писал, что именно эти две силы в октябре 1964 г. с легкостью сбросили Хрущева, попытавшегося минимальным образом посягнуть на привилегии партаппарата и военные расходы. И Сахаров понимал, насколько непрочно положение Горбачева и его соратников, затеявших перестройку. Он хорошо знал историю России, давшую немало примеров, когда благие реформаторские порывы первых лиц государства каждый раз тонули в трясине тоталитарной бюрократии, не желавшей таких реформ, которые вынудят чиновников подчиняться закону и бояться избирателей. И снова и снова получалось «как всегда» (вспомним незабвенного Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу