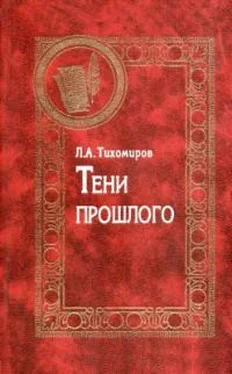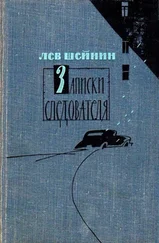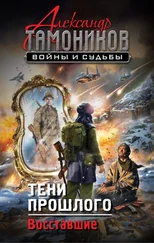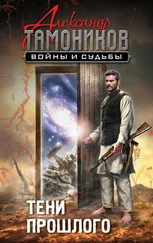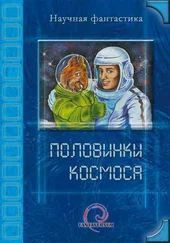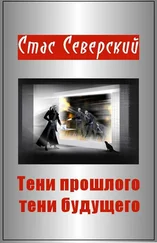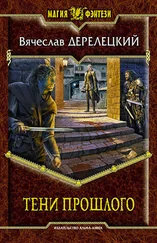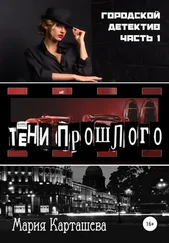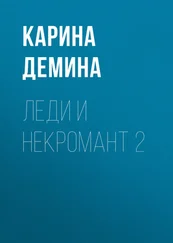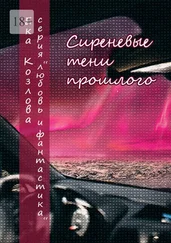Следующим связующим звеном русской мысли нужно признать Л. А. Тихомирова: и по личной высокой оценке леонтьевской деятельности, и но внутреннему содержанию сочинении самого Льва Александровича. Леонтьев писал (в письме от 7 августа 1891 года) из Онтиион пустыни Л. А. Тихомирову: «Приятно видеть, как другой человек и другим путем (выделено К. Н. Леонтьевым. — М. С.) приходит почти к тому же, о чем мы сами давно думали». Это признание родственности убеждений и духа мысли. А выделенное К. 11. Леонтьевым в этом письме место и есть ключ к пониманию самобытности следующего этапа русской мысли, олицетворенного в Л. А. Тихомирове.
Будучи прямым наследником К. II. Леонтьева (и даже не в том смысле, что он развивал его идеи, а в том, что продолжил саму пить размышлении над проблемами I (рапогланпой Церкви, монархического государства и подобными вопросами), Л. А. Тихомиров пришел в русскую конссдоативную мысль из идеологов народовольчества. И это очень важно для понимания особенности его мышления.
Нго мысль, вероятно, довлела над его натурой и характером, зачастую заставляя подчиняться выводам логики не менее, чем чувствам. Его переход в мир традиции может быть сравним лишь с путем Ф. М. Достоевского — участника серьезной тайной]юволк)Циоипой организации петрашевцев, прошедшего че|х\1 личный глубокий атеизм, ожидание расстрела и катоду. Их предощущения революции удивительно схожи психологически. «Ьесы» Ф. М. Достоевского могут бьггь гениальной иллюстрацией к политологическим рассуждениям о феномене революции в работах Л. А. Тихомирова конца 80 — 90-х годов XIX столетия [8] См.: «Почему я перестал быть революционером». «Начала и концы. Либералы и террористы», «Демократия либеральная и социальная» и «Борьба века», изданные журналом «Москва» в сборнике работ Л. А. Тихомирова «Критика демократии [8] (М., 1997).
.
Революционные течения первой половины XIX столетия еще не были столь ожесточенно-богоборческими, как к концу века. Невозможно представить Лепина, Бухарина или, скажем, Каляева не расстающимися всю революционную жизнь с образком святого, тогда как с Л. А. Тихомировым всегда был подаренный матерью образок святителя Митрофана Воронежского, или же увозящими в политическую эмиграцию Евангелие. Атеизм или даже богоборчество, всегда в большей или меньшей степени связанные с идеей революции, все же еще не были догматически усвоены многими народовольцами, сохранявшими некоторые христианские понятия — например, о честности. Л. А. Тихомировым и другими народовольцами было отвергнуто предложение использовать английские деньги для подготовки революции в России. Но уже во время первой революции 1905 года кадеты легко брали деньги от финнов на свою разрушительную деятельность, а во время Первой мировой войны большевики Лепина по идейным соображениям получали деньги от военного противника (немцев) на свою революцию. Вряд ли можно представить, чтобы революционеры-народовольцы могли послать письмо турецкому султану с поздравлением по поводу неудачного штурма русскими войсками Плевны во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Во время же русско-японской войны 1904–1905 годов такие поздравления японскому микадо имели место, не говоря уже о тотальной аморальности большевиков, желающих поражения своей Родине во время Первой мировой войны. Так что революция в своем нравственном состоянии «развивалась» в сторону все меньшей обремененности моральными понятиями. Сила революции возрастала ее безнравственностью.
Революция во времена народовольчества была, если так можно сказать, более «честна» по отношению к своему Отечеству и не имела еще на своем знамени лозунга: «Чем хуже, тем лучше». Вероятно, поэтому с революционной средой могли порвать отношения такие люди, как Л. А. Тихомиров или Ю. Н. Говоруха-Отрок. И хотя в те годы революция еще не была способна сломать Империю, Л. А. Тихомиров уже видел потенциальные ее сатанинские глубины. После перехода в 1888 году на сторону исторической России он ощущал мистически-реально приближение революциошюго безумия и всеми своими силами вел борьбу с этим направлением.
Побывав в водовороте революции, в самой середине его, и чуть духовно не сломавшись под ее давлением, он всю оставшуюся жизнь чувствовал страшное дыхание этого чудовища. Причем это ощущение его не сковывало, не лишало сил, а лишь мистически подстегивало к борьбе, к противодействию, к предостережению. Возможность революции представлялась ему настолько реальной, что окружающие зачастую сомневались в адекватности его оценки ситуации [9] Так, например, за несколько месяцев до своей смерти от рук революцио-неров-террористов такое сомнение высказывал крупный русский сановник генерал-адъюгант граф Алексей Павлович Игнатьев (1842–1906), не веривший в крайнюю опасность революции.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу