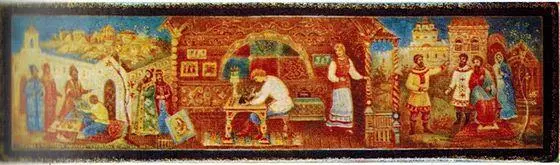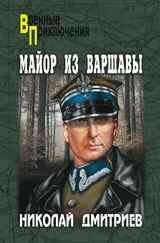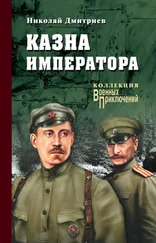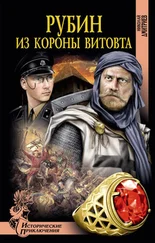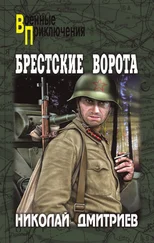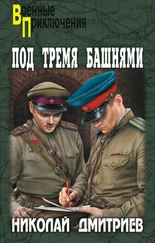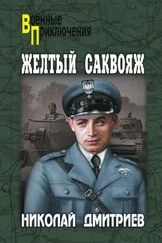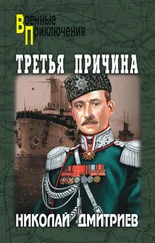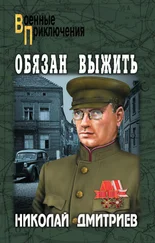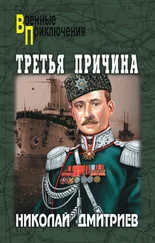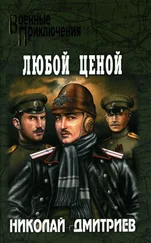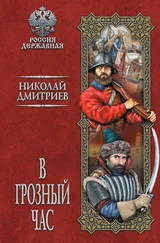В 1924 году артель начала осваивать роспись масляными красками настенных ковриков на полотне. Это давало дополнительный доход, но мало что прибавляло к художественному опыту мастеров. Качество этого вида продукции было сомнительным как со стороны профессионального мастерства, так и содержания: «Первый поцелуй», «Прощание у колодца», «Котята в корзинке» и другие были живописными поделками мещанского вкуса.
К концу 1925 года в артели работало уже тридцать два человека. Низкое качество продукции затрудняло сбыт. Мастера увольнялись. После некоторых принятых мер по относительному повышению качества ковриков, которые по художественной сути ничего не меняли, наладился сбыт. В 1928 году в артели состояло уже свыше шестидесяти человек. Но все это не давало выхода в настоящее искусство, не приближало, а наоборот, отдаляло и уводило в сторону от него. Экономическая же база наметилась, и мастера, довольствуясь благополучием, ничего не хотели менять. Даже такой мастер как Котягин приспособился — осел и долго упорствовал новым поискам. А новое все еще казалось далеким миражом. Нужен был решительный сдвиг в сознании мастеров. Требовалось серьезным образом определить художественную направленность промысла. К этому подключились силы Научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП).
В начале 1931 года артель направила И. А. Серебрякова и Е. В. Юрина в Москву на курсы для изучения техники росписи на папье-маше, а А. Н. Куликова и И. Н. Клыкова — на родину русских лаков в Федоскино для освоения процесса производства этого материала. Во Мстеру приехали искусствоведы А. В. Бакушинский и В. М. Василенко. Они непосредственно на месте проводили исследовательскую работу по выявлению истоков местных иконописных традиций, определяли основы предполагаемого стиля мстерской живописи.
К мастерам приходили и бессонные ночи: «Попробуй все перевари, что наговорили ученые люди! А говорят они красно. Диву даешься, сколько они всего знают. Слушаешь их, а к сердцу почему-то радость подкатывает, и в то же время чувствуешь себя перед ними каким-то маленьким, а в голове остается одно слово — стиль. И надо же такому быть, нашел Анатолий Васильевич Бакушинский в единоверческой церкви икону «Алексей — человек божий» моей работы, (а я совсем забыл про нее) и так ее превознес, что я как будто на небесах побывал. «Вот, — говорит, — этот стиль вам и развивать надо». Не посмел я тогда сказать, а в голове вертелось: «Мы хотим вперед смотреть, а вы нас назад — к иконе! Мудрено что-то». Так рассказывал мой отец Г. Т. Дмитриев о встрече с учеными.
1931 год стал для Мстеры переломным. 22 июня общее собрание артели постановило выделить из ее состава цех живописцев по росписи папье-маше в самостоятельный и ведущий, ходатайствовать о присвоении артели наименования «Пролетарское искусство». Пять лучших мастеров — Н. П. Клыков, А. И. Брягин, Е. В. Юрин, И. А. Серебряков, В. И. Савин — начали новое дело освоения миниатюрной живописи.
Глава II. ПОСТИЖЕНИЕ ТАЙН РЕМЕСЛА
Последовательность работы
Знакомя с мстерской живописью, необходимо сказать, что в становлении исполнительского мастерства огромную роль играет опыт — неоднократное повторение технических приемов письма, — который вырабатывается на основе знания иконописного канона. Канон — это определенное традиционное условие, характеризующееся своим постоянством, неизменяемостью.
Уверенный художественный почерк приходит с годами, через преодоление трудностей и сопротивление материала. Большое значение имеют также пластическая определенность форм, четкая и ясная проработка деталей. В древнерусской живописи выдающуюся роль играла линия. В лучших произведениях средневековой иконописи линия всегда эмоциональна, она вибрирует, живет. Как средство выражения художественной формы линия обусловлена также каноном. Любая форма должна быть ограничена линейным контуром, теневой или световой росписью.
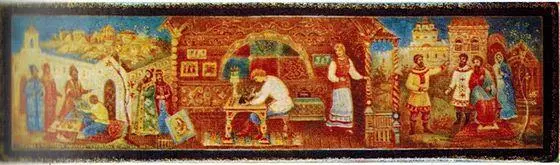
В. Г. Старкова. Коробка «Легенда о мстерском мастере». 1967
Световая роспись представляет собой белильное или светотеневое оконтуривание формы в светлых местах. Линия и плавь определяют структуру формы пробелов с их характерными признаками в разных иконописных школах. Например, в новгородских письмах пробела строги, лаконичны; в строгановских — более сложны и слитны.
Читать дальше