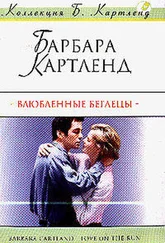Вениамин Додин - Беглецы
Здесь есть возможность читать онлайн «Вениамин Додин - Беглецы» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Биографии и Мемуары, great_story, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Беглецы
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Беглецы: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Беглецы»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Беглецы — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Беглецы», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Мои псы: тотчас взяли след, рванулись в тайгу — вверх по распадку. Мы принялись за уборку…
Оставив в зимовьи Хироси, мы с Кобаяси–сан двинулись на лыжах в вершину Борёмы, где, по лаю, собаки держали росомаху.
Плохо было то, что у моих японцев не было собак. Аркадий и Михаил Соседов, люди слишком опытные чтобы давать непродуманные советы, напрочь отмели мое желание оставить с Кобаяси–сан и Ямамото–сан двух моих собак — Белку и Байкала, — сильных, злобных лаек, незаменимых в тайге работяг, идущих одинаково хорошо на промыслового зверя и на птицу, — качество чрезвычайно ценимое в Сибири, как, впрочем, редкое. Главное же, по моему мнению, было то, что оба пса не боялись медведя, шли с ним на «контакт», обкладывали его по всем правилам, но пока не наступали критические обстоятельства — зубы в ход не пускали. Дело в том, что любая собака, всерьез пытающаяся схватить медведя зубами, обречена: зверь этот настолько быстр в своих реакциях и действиях, настолько проворен, что собака, хотя бы на мгновение «зацепившая» его, тотчас будет убита или смертельно ранена размозжившей ее лапой… Это какая–то дьявольщина, но сколько бы собак ни окружало «не занятого» их хозяином медведя, к каждой из них он всегда будет обращен страшнозубой мордой и вседостающими лапами с вилообразными когтями… Мой Усовский приятель Павлик Челноков, геолог и охотник, к полевому сезону, а точнее, к осени, отбирает ежегодно по пятнадцать–двадцать молодых лаек, понемногу притравливает их на пойманных и подросших медвежатах, которые всегда водятся в семьях геологов–полевиков. И, отобрав с десяток же самых надежных, проверенных, уходит в верховья Пита — в медвежье Царство Кряжа на любезную его сердцу охоту. И в первые же дни теряет почти всех собак, не успевавших даже сообразить, откуда и как их коснулась смерть. И только два–три пса, достаточно смелых чтобы рваться к медведю, но и благоразумно осмотрительных, никогда в него не вцеплявшихся, остаются жить и переходят в разряд «медвежатников». Другое дело, — если медведь сам «взял» охотника… Вот тогда и обнаруживается истинно верный друг, забывающий об опасности и бросающийся на помощь своему схваченному зверем хозяину! Этот друг — мгновенно звереющий пес — хватает, вгрызается занятому человеком медведю в пах под коротким хвостом… И если даже гибнет тотчас от удара вездесущей лапы зверя, все равно, виснет на нем… Боль от такого нападения собаки столь сильна, что медведь оставляет на время человека, пытаясь отодрать от самого чувствительного места, мертво вцепившегося в него пса… Для многих охотников эти мгновения оказывались спасительными…
…Последний медведь Челнокова, отшвырнув от себя уже мертвых «медвежатников», ударом лапы размозжил череп Павлика… Раненый зверь озлобляется до бешенства, до полной утери инстинкта самосохранения. Человека в этой очень частой ситуации спасает только сила, ловкость, — умение не растеряться от внезапно скогтившей тебя твоей смерти, извернуться, — только один раз ударить, без промаха, намертво зажатым в окостеневшей руке охотничьим ножом… Рассказывают: человеку, однажды увидевшему ободранную медведицу, — истерзанную ножами белокожую женщину–мать, — а именно такой видится непривычному человеку убитая самка зверя, — человеку этому ударить медведя ножом невозможно…
Да, очень плохо было, что у японцев не было собак. И не должно было быть. Правда, чтобы знать о приближении зверя или человека, — а посторонний человек был в нашем случае опаснее всякого зверя, — Нина передала Кобаяси–сан с приходившим в зимовье /еще в Медвежьей пади/ Ленардом свою маленькую собачку Пушка. Пушок был «зверем» комнатным. Если чуял кого, — а чуял он лучше любой лайки, — то поднимал голос, слышимый только в избушке. И если сразу после того как он давал знак: «Чужой!», или «Зверь!», его на руках выносили наружу, он глядел настороженно в сторону одному ему послышавшегося звука и молчал; качество замечательное для собачки в схроне, где не нужно чтобы тебя обнаружили: звуки, особенно в зимней тайге, в мороз, разносятся очень далеко! Но вот больших собак–лаек на притаившемся в глухомани зимовье держать нельзя было: пройди где–то зверь, окажись хоть за пять километров отсюда человек, они тотчас сорвутся и кинутся к ним! И, конечно, выдадут жилье. А в лесу любой прохожий — гость. Скомандовать ему: «Не подходи!» — Такое невозможно. Если сравнить положение наших японцев или немцев с положением… разведки на чужой территории во–время войны, — «никому нельзя позволить себя обнаружить!», то оставалось только, если, все же ты обнаружен, уничтожить… Кого?!!!… Потому сидели в схроне–зимовьи, потому на охоту, на рыбалку, по дрова — одни, без собак. И ничего тут поделать было нельзя. Слишком близко, по Сибирским меркам, скрывались они от жилых мест, от территорий, где промышляли охотники, от троп, по которым; ходили геологи… Найти места подальше, вглуби Таежного Океана? Но тогда быть им одним. Напрочь отрезанным от мира. От помощи, если что случится, — несчастье какое–нибудь, болезнь…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Беглецы»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Беглецы» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Беглецы» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.